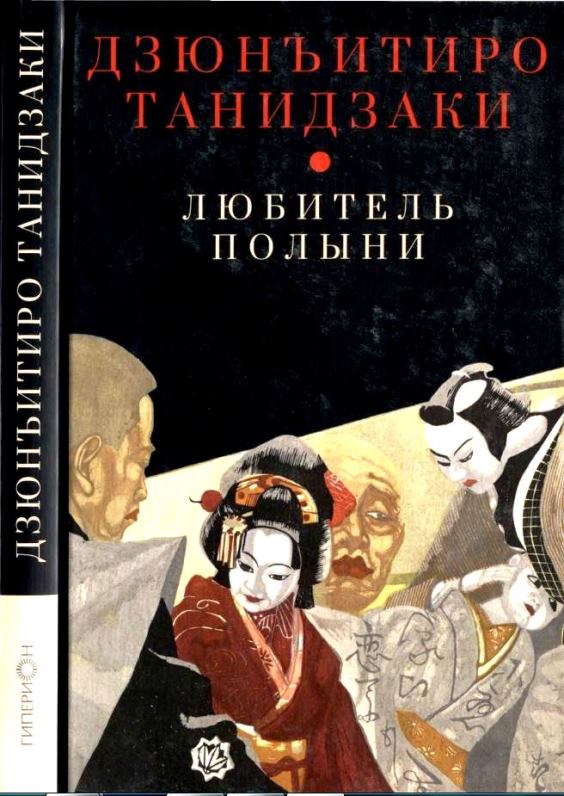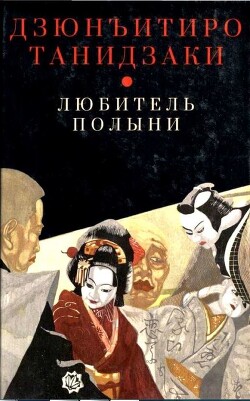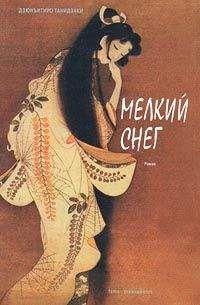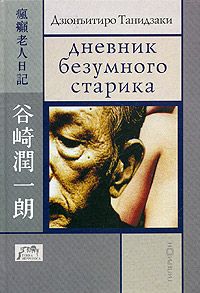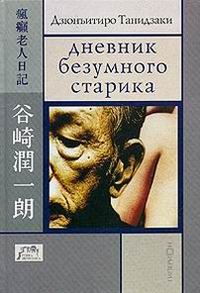из-за пояса коробку из красного янтаря с табаком и сунула белую руку под её крышку. «В самом деле, так и надо смотреть кукольный театр — рядом с любовницей и попивая сакэ», — подумал Канамэ. Все молчали. От нечего делать Канамэ устремил слегка осоловелые глаза на сцену, где изображался чайный домик Касё. Чашку сакэ, несколько большую, чем обычная, он выпил до дна, в глазах немного туманилось, и сцена показалась ему гораздо более далёкой, чем раньше. Ему приходилось напрягать зрение, чтобы рассмотреть лица кукол и узоры их одежд. В лице Дзихэй, похожем на маску Но, [15] было своего рода очарование, но он или стоял, или двигался, и ноги его болтались снизу длинного туловища, что на неискушённого зрителя производило невыгодное впечатление, а вот неподвижно сидевшая, потупив голову, Кохару была прекрасна. Полы её слишком плотной одежды свисали с колен несколько неестественно, но это скоро забывалось.
Сравнивая японских кукол с марионетками Тёмного театра, [16] старик говорил, что в европейском театре кукла висит в воздухе, положение поясницы неопределённое, руки и ноги двигаться-то движутся, но гибкости и упругости живой плоти в них не чувствуется, не возникает ощущения, что под одеждой натянуты мышцы, а вот в японском театре тело куклы изображается рукой кукловода, поэтому под одеждой живут и пульсируют настоящие человеческие мускулы. Здесь сознательно используются особенности японской одежды; европейцы пытаются этому подражать, но добиться необходимого эффекта в одетой по-европейски кукле невозможно. Поэтому японский кукольный театр уникален, столь глубоко продуманной театральной техники нигде больше нет — и если старик так говорит, то, без сомнения, так оно и есть. Стоящая или быстро двигающаяся кукла неуклюжа, потому что половина её тела висит в воздухе, как в европейском кукольном театре; этот недостаток предотвратить невозможно. Канамэ соглашался с мнением старика: только сидящая кукла создаёт впечатление живой упругости тела, и еле уловимые движения Кохару — едва заметные жесты и колебания плеч, обозначающие дыхание, — производили впечатление живого существа, так что становилось жутковато.
Канамэ, взяв программу, отыскал имя кукловода Кохару. Это был знаменитый Бунгоро. [17] Лицо его было спокойным, полным достоинства, поистине лицо знаменитости. Улыбаясь, он смотрел на куклу, которую держал в руках, с нежностью, как будто это была его дочь, — было видно, что он наслаждается своим искусством. Участи старого артиста можно только позавидовать. Канамэ вспомнил мальчика-эльфа из фильма «Питер Пэн». [18] Кохару была совсем как герой этой сказки, обликом человек, но гораздо меньшего роста. Она должна была оставаться созданием рук Бунгоро, одетого в церемониальный костюм самурая.
— В искусстве рассказчика я не разбираюсь, а Кохару мне нравится, — подумал вслух Канамэ.
О-Хиса, должно быть, его услышала, но никто ему не ответил.
Канамэ часто мигал, чтобы лучше видеть. По мере того как проходило опьянение, некоторое время согревавшее его, лицо Кохару постепенно приобретало чёткие контуры. Левая рука её была за пазухой, правая вытянута к жаровне, подбородок опущен в воротник, она была погружена в задумчивость — в этой позе она долго оставалась неподвижной. Если пристально смотреть на неё, кукловода в конце концов перестаёшь замечать. Кохару не была эльфом в руках Бунгоро: она, сидя на циновке, жила. Она не производила того впечатления, которое производят нарядившиеся актёры Кабуки. Как бы искусны ни были Байко [19] или Фукусукэ, [20] всегда казалось, что зрители восхищаются их актёрским мастерством, но за артистами не видят персонажей, которых те играют. В зале только и слышалось: «Ах, Байко! Ах, Фукусукэ!» А эта Кохару была не кем иным, как настоящей Кохару. У неё не было мимики, как у актёров, и это, пожалуй, можно счесть недостатком. Но, по-видимому, в старину женщина квартала красных фонарей на людях своих эмоций в лице и не выражала. Настоящая Кохару, жившая в период Гэнроку, [21] была подобна кукле. В действительности, возможно, было и не так, но та Кохару, о которой грезили люди, пришедшие смотреть спектакль, не являлась ни Байко, ни Фукусукэ, она была именно этой куклой. В старину идеальные красавицы не проявляли так легко свою индивидуальность, они оставались чрезвычайно сдержанны; возможно, какая-нибудь отличительная индивидуальная черта разрушила бы их образ. В старину и Кохару, и Умэгава, и Санкацу, и О-Сюн [22] — все были для зрителей на одно лицо. Не воплощала ли марионетка Кохару в старинной японской традиции идеал «вечной женственности»? [23]
Лет десять тому назад Канамэ смотрел кукольный спектакль в театре Горе Бунракудза [24] без всякого интереса, и у него осталось воспоминание ужасной скуки, а сейчас, с самого начала ничего не ожидая, пришедший в театр по долгу, он оказался невольно вовлечён в мир, раскрывающийся на сцене, — для него самого это оказалось полной неожиданностью. Он не мог не думать о том, что стал старше на десять лет. Теперь тесть из Киото не казался ему глупым эстетом. Через десять лет, может быть, он и сам превратится в такого же старика и будет ходить по театрам с любовницей О-Хиса, с кисетом из кожи с золотым тиснением, с лаковыми коробками с едой. А может, это случится и раньше. Он с молодых лет имел привычку представляться старше своих лет; должно быть, это было стремлением постареть в два раза быстрее, чем другие.
Канамэ переводил глаза с Кохару на сцене на профиль О-Хиса с её полными щеками. О-Хиса, всегда сонная, с равнодушным лицом, была в чём-то схожа с Кохару.
В груди у него теснились два противоположных чувства. Не надо бояться старости, в ней нет ничего печального, преклонные годы несут свои радости — подобные мысли сами по себе были признаком приближающейся старости. Но не потому ли он разводился с женой, что и он, и Мисако стремились снова обрести свободу, снова окунуться в свою молодость? И чтобы вырваться из своей семейной жизни, он не должен был стареть.
В антракте Канамэ снова поблагодарил повернувшегося к нему тестя:
— Спасибо, что вчера вы нам позвонили. Благодаря вам я получил сегодня истинное наслаждение. Скажу вам без каких-либо комплиментов, это по-настоящему прекрасно.
— Комплименты надо говорить не мне. Я не кукловод, — отвечал старик с самодовольным видом, зябко втягивая голову в выцветший тёмно-фиолетовый шарф, сшитый из старого крепдешинового платья. — Приглашая вас, я думал: наверное, им будет скучно, но один-то раз можно посмотреть.
— Нет, это очень интересно. Раньше у меня было совершенно другое впечатление от кукольного театра. Я совсем не ожидал.
— Да, дорогой, когда такие мастера,