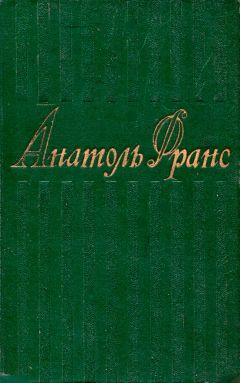Замок с башенками на углах, имевший очертания фургона, в результате последовательных перестроек утратил свой истинный характер. То было обширное, почтенное сооружение — и только. Мне показалось, что за тридцать два года запустения оно не потерпело особого ущерба. Но когда г-жа де Габри привела меня в большую гостиную нижнего этажа, я там увидел вспучившийся пол, гнилые плинтусы, потрескавшуюся обшивку стен, почернелую роспись простенков, на три четверти отставшую от рам. Выросший посреди гостиной каштан раздвинул паркетные дощечки и обращал к выбитым окнам широкие султаны своей листвы.
Не без тревоги взирал я на это зрелище, соображая, что богатая библиотека Оноре де Габри, находящаяся в соседней комнате, так долго подвергалась вредоносным влияниям. И все же, созерцая молодой каштан в гостиной, я не мог не подивиться великолепной мощи природы и непреоборимой силе, побуждающей каждый зародыш претвориться в жизнь. Зато я опечалился при мысли, что усилия, какие употребляем мы, ученые, чтобы сберечь и сохранить вещи умершие, — это усилия и многотрудные и тщетные. Все, что отжило, является необходимой пищей для новых видов бытия. Араб, построивший себе жилище из мрамора пальмирских храмов[151], — более философ, чем все хранители музеев Парижа, Лондона и Мюнхена.
Люзанс, 11 августа
Слава богу! Библиотека, окна которой выходят на восток, избегла непоправимого ущерба. Кроме увесистого ряда старинного «Обычного права» in folio, насквозь проеденного сонями, книги в зарешеченных шкафах остались невредимы. Весь день я провел, классифицируя рукописи. Солнце вливалось в высокие незанавешенные окна, и я, не прерывая чтения, иной раз очень интересного, все время слышал, как грузно бились о стекла отяжелевшие шмели, трещала деревянная обшивка стен и мухи, пьяные от света и жары, жужжали, кружась у меня над головой. К трем часам гуденье их усилилось настолько, что я приподнял голову от документа, крайне ценного для истории Мелена XIII века, и начал наблюдать за концентрическим полетом этих, по выраженью Лафонтена, «животинок». Должен констатировать, что действие жары на крылья мухи совсем иное, чем на мозги архивиста-палеографа, ибо я испытывал большое затруднение в мыслях и довольно приятное оцепенение, из коего я вышел, лишь сделав резкое усилие. Колокол, возвестив обед, прервал на середине мою работу, и я наспех переоделся, чтобы явиться в приличном виде перед г-жою де Габри.
Обильная трапеза сама собою затянулась. У меня талант, пожалуй выше среднего, дегустировать вино. Хозяин, заметив мои способности, оценил меня настолько, что в мою честь раскупорил отборную бутылочку шато-марго. Я с уваженьем пил это вино высокой породы и благородных свойств, букет которого и вкус превыше всех похвал. Эта пылкая роса, проникнув в мои вены, воодушевила меня юношеским жаром. Сидя возле г-жи де Габри на террасе, в сумерках, окутывающих тайной расплывшиеся очертания деревьев, я имел удовольствие передавать умной хозяйке свои впечатления живо, с большим чувством, что крайне удивительно в человеке, каким являюсь я, то есть в человеке без всякого воображения. Свободно, не прибегая к старинным текстам, описал я ей нежную грусть вечера и красоту родной земли, которая питает нас не только хлебом и вином, но мыслями, верованиями и чувствами и примет всех нас в материнское свое лоно, как маленьких детей, уставших от длительного дня.
— Господин Бонар, — обратилась ко мне моя очаровательная собеседница, — видите эти старые башни, эти деревья, это небо; как естественно родились в такой обстановке персонажи сказок и народных песен! Вон тропинка, по которой Красная Шапочка шла в лес за орехами. Это изменчивое, всегда подернутое дымкой небо бороздили колесницы фей, а северная башня могла скрывать под островерхой крышей старуху пряху, веретеном которой укололась Спящая Красавица.
Я продолжал обдумывать ее прелестные слова, в то время как г-н Поль, попыхивая крепкою сигарой, рассказывал мне о некоей тяжбе, затеянной им с общиной из-за отвода какого-то ручья. Г-жа де Габри, почувствовав вечернюю прохладу, от которой не могла ее защитить шаль, простилась с нами и ушла к себе. Я решил не возвращаться в свою комнату, а вновь пойти в библиотеку и продолжить разбор рукописей. Несмотря на уговоры г-на Поля, побуждавшего меня лечь спать, я вошел в то помещение, какое назову по-старинному книгохранилищем, и взялся за работу при свете лампы.
Прочтя страниц пятнадцать, написанных, как видно, невежественным и рассеянным писцом, ибо мне было трудновато улавливать их смысл, я сунул руку за табакеркой в зияющий карман сюртука, однако это естественное и как бы инстинктивное движение на сей раз стоило мне известного труда и утомления; тем не менее серебряную коробочку я открыл и взял оттуда несколько крупинок пахучего порошка, но они разлетелись по манишке, оставив мой нос в дураках. Я уверен, что нос мой выразил негодованье, так как он очень выразителен. Он не раз выдавал самые сокровенные мои мысли, особенно в Кутанской публичной библиотеке, где я, под носом у коллеги моего Бриу, выискал картуларий[152] Нотр-Дам-дез-Анж.
Какая то была радость! Мои маленькие тусклые глаза в очках не выдали ее ничем. Но, увидав один мой нос картошкой, трепещущий от радости и спеси, Бриу смекнул, что у меня находка. Он заприметил том, который я держал, запомнил место, куда я, уходя, его поставил, взял его сейчас же вслед за мной, тайком списал и наскоро издал мне на смех. Но, думая поддеть меня, поддел лишь самого себя. Его издание кишит ошибками, и я с удовлетворением отметил в нем ряд крупных промахов.
Возвращаюсь к исходному моменту: я заподозрил, что тяготит мой ум только гнетущая сонливость. Перед моими глазами лежал старинный договор, а его значение оценит всякий, если скажу, что в нем упоминается садок для кроликов, запроданный священнику Жану д'Эстурвилю в 1212 году. Чувствуя, насколько важен этот факт, я все-таки не уделил ему того внимания, какого требовал подобный документ. Что я ни делал, мои глаза всё обращались к концу стола, хотя там не было ни одного предмета, имеющего важность с научной точки зрения. На этом месте лежал лишь большой немецкий том, переплетенный в свиную кожу, с медными гвоздями на досках переплета и толстыми валиками на корешке. То был прекрасный экземпляр компиляции, достойной одобрения лишь за ее гравюры на дереве и хорошо известной под именем Нюрнбергской летописи. Том стоял на среднем своем обрезе благодаря чуть приоткрытым доскам переплета.
Не знаю, сколько времени этот старинный фолиант притягивал к себе без видимой причины мои взоры, как вдруг их захватило зрелище столь необычное, что даже человек, лишенный всякого воображенья, — вроде меня, — поразился бы им живейшим образом.
Я вдруг увидел, не заметив, когда она явилась, маленькую даму, сидевшую на книжном корешке, согнув в колене одну ногу, другую свесив, — почти в той позе, какую принимают, садясь на лошадь, амазонки в Булонском лесу или в Гайд-Парке. Дама была такою маленькой, что ее болтавшаяся ножка не доходила до стола, где стлался змейкой шлейф ее платья. И все же ее лицо и стан могли принадлежать лишь взрослой женщине. Полнота груди, округлость талии не оставляли ни малейшего сомнения на этот счет, — даже у старого ученого вроде меня. Добавляю, без боязни ошибиться, что она была красавица и вида гордого, ибо занятия иконографией издавна приучили меня определять характер внешности и чистоту типа. Лицо дамы, так неожиданно усевшейся на краешке Нюрнбергской летописи, дышало благородством с примесью своенравия. У нее был облик королевы, и притом капризной; по одному выражению ее глаз я заключил, что где-то она пользовалась большою властью и очень фантастично. Рот у нее был властный и иронический, а синие глаза под безукоризненными дугами бровей смеялись, но с каким-то внушающим тревогу выражением. Мне часто приходилось слышать, что темные брови весьма идут блондинкам, — а эта дама была блондинка. В общем, она производила впечатление величия.
Однако ж моя дама была с бутылку ростом, и если бы не мое благоговенье перед ней, я бы мог свободно ее спрятать в заднем кармане сюртука, поэтому должно казаться непонятным, чем же ее особа вызывала представление о величии. Но в самых пропорциях дамы, сидящей на Нюрнбергской летописи, была такая горделивая стройность, такая величавая гармония, в позе было столько свободы и благородства, что мне она представлялась большой. Чернильница, которую она разглядывала с насмешливым вниманием, как будто заранее читая в ней слова, готовые оттуда выйти на кончике моего пера, — могла бы оказаться для нее достаточно глубоким бассейном, чтобы зачернить вплоть до подвязок ее чулки из розового шелка с золотыми стрелками; но, несмотря на это, повторяю: при всей своей игривости она казалась мне большой и величавой.