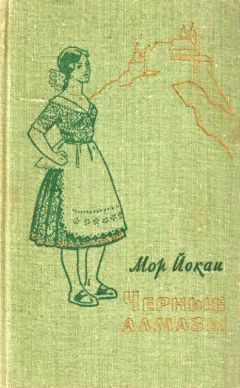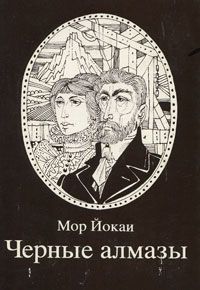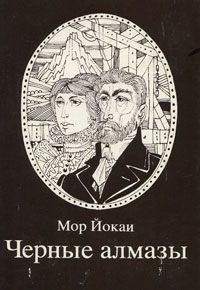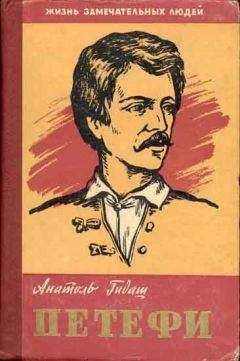Иван, прочитав об этом, громко расхохотался.
Уж он-то лучше, чем кто-либо, знал, с какой прибылью работает акционерный участок. Ведь нет ничего проще, чем провести учет таким образом, чтобы вся наличность в кассе фигурировала как прибыль. А разве неопытные пайщики могут разобраться в этом? Сами-то члены правления, конечно, ведают, что творят. Но даже если каждый из них потеряет то, что вложил в бондаварские акции, он выручит свое на других, а мелкие пайщики пусть себе плачут.
Ведь на бирже никогда не трубят тревогу.
Итак, господин Чанта не спустил свои акции, выплатил серебром второй взнос и теперь радовался прибылям и благословлял Шпитцхазе, который удержал его от продажи бумаг по тридцать пять процентов, тогда как через неделю они поднимутся до сорока пяти.
Иван же спокойно взирал на эту дьявольскую свистопляску:
«Доколе же будет длиться эта шутовская затея?»
По странному расположению созвездий, именно в тот момент, когда Иван сказал себе: «Доколе же будет длиться эта шутовская затея?» — на бирже князь Вальдемар задал тот же вопрос светившемуся торжеством Каульману:
— Как вы полагаете, долго ли продлится эта комедия?
— Предстоит еще третий акт, — ответил банкир.
— Да, третий взнос. Тогда-то, с моей помощью, вы и взлетите в воздух.
— Я тогда тоже скажу свое слово!
Противная сторона не в силах была разгадать планы Каульмана. Ясно, что он к чему-то готовится. Но к чему? Это знали лишь аббат Шамуэль и князь Тибальд.
Третий акт открывала авантюра с бондаварской железной дорогой!
Трудная задача! Государственные мужи гневаются на Венгрию и в гневе не разрешают ей строить железные дороги, даже проезжие дороги не дают мостить, пусть-де Венгрия обратится в пустыню, пусть станет азиатской страной!
А нет ли у них достаточно веских оснований для гнева? Ведь доныне все выношенные ими государственные идеи разбивались о косность этого упрямого народа.
Все в Венгрии — все, кто ходит в сукне, — настроены против них. Чиновничье сословие, средний класс страны, интеллигенция, — все единодушно скорее готовы сложить с себя полномочия, нежели способствовать осуществлению замыслов венской государственной мудрости. Хорошо! Одних депутатов сменили другими: к накрытому столу всегда подоспеет гость. Но эта мера не дала никаких результатов. Новая партия чиновников получила жалованье, поприветствовала представителей власти, выразила добрые пожелания, принесла присягу, набила карманы, но для претворения в жизнь государственной идеи не сделала абсолютно ничего.
Разница между прежними и вновь навербованными лишь в том, что первые открыто заявляли, что не желают ничего предпринимать, а эти делали вид, будто стараются как-то действовать, но у них ничего не получается, будто они толкают дело вперед, а оно ни с места.
От сословия, одетого в сукно, не добиться того, что нужно государственным мужам.
В прошлые времена служил противовесом класс, разодетый в шелка и бархат: парадная венгерка и ряса, помещик и поп. Теперь и они сошли со сцены.
Кардинал противится, епископы попусту занимают свои места, графы, бывшие губернаторы засели в Пеште и выражают недовольство, а может, и устраивают заговоры.
«Flectere si nequeo superos…»[155] Обратимся же к сермяге.
Сермяга, как известно, самый низкий сорт серой, жесткой ткани, которую носят лишь самые бедные слои народа. Но именно сермяга пользовалась в то время наибольшей популярностью в имперской столице.
Нет, дело не дошло до того, что модницы, потеряв голову, набросились на сермягу и отныне только из нее шили себе воздушные платья! Просто люди, одетые в эту ткань, заняли целую скамью в законодательном собрании империи. Их прислала Галиция.
Ну так что? Есть у вас какие-либо возражения? Ведь мы как-никак демократы! Не так ли?
Ах, покорнейше прошу прощения! Конечно, мы демократы. Я тут ни словом не возражаю, более того, как раз хочу подчеркнуть, что это была гениальная идея: посадить сермягу в законодательное собрание. Облаченные в нее люди вне всякого сомнения весьма прямодушны и порядочны. Если епископ зевает, и они зевают, если он встает, и они встают тоже, если он скребет в затылке, и они скребут, что лишний раз доказывает их принципиальность и твердость.
Языка, на котором проходят дебаты, они, правда не понимают, но в этом их неоценимое преимущество: они не произносят длинных речей и не мешают репликами ходу дискуссии. Конечно, они не привнесли глубоких знаний в дело составления законов, в обсуждение конституционных вопросов, реформ и статей бюджета, но именно здесь сама их первозданная простота заставляет относиться к их поступкам с максимальным доверием, ибо никто не может заподозрить их в том, что они голосуют за правительство в надежде заполучить какую-нибудь должность.
Еще раз повторяем, что идея ввести простолюдинов в законодательное и конституционное собрание делает честь тому, кто пустил ее в ход.
А ведь в Венгрии многие носят сермягу. И сто с лишним кресел, для них предназначенных, пустует в Шоттенторском дворце законодательства.
Недостает лишь одного посредника: духовенства.
Ибо эти венгерские попы — сущие варвары, такие неотесанные, что и по сей день считают более важным цепляться за старые традиции времен Ракоци, чем принимать новейшие достижения цивилизации.
Уж на что мелкая сошка приходский священник Махок, а он и то отсылает обратно распоряжения министра, которые ему следует оглашать с амвона, — да еще с припиской, что он-де не деревенский стражник. А буде что желают объявить народу, на то есть базарная площадь, есть глашатай при сельской управе, есть барабан: бейте в барабан и созывайте народ; а в храме не место циркуляры зачитывать!
Это твердолобое духовное сословие тоже еще предстоит обломать!
— Настало время действовать! — сказал Феликс Каульман аббату Шамуэлю.
«Настало время действовать!» — сказал себе аббат Шамуэль.
Кардинал ездил в Вену. Кардинал не получил аудиенции. Кардинал впал в немилость. Трансильванский епископ отстранен от должности. Над венгерским духовенством навис дамоклов меч. И для нити, его удерживающей, готовы ножницы!
Бондаварская железная дорога — «gradus ad Parnassum».[156]
Если удастся получить разрешение на постройку, фирма Каульман встанет в один ряд с фирмами Перейра и Штраусберг.
И тогда свершится: заем от папы под залог венгерских церковных владений.
Все достигается разом!
Положение в свете, власть в стране, влияние в империи, успех в деловых кругах и главенство в церковной иерархии.
Аббат Шамуэль приступил к осуществлению своих честолюбивых замыслов.
Первой его задачей было привезти и из Венгрии сермяжных депутатов в имперское законодательное собрание и взамен получить бондаварскую железную дорогу, сан епископа и кресло в сенате.
Все три приманки лежали готовыми: извольте принять. И в этой игре самые влиятельные люди — не более чем шахматные фигуры, которые он будет двигать по собственному усмотрению: государственный деятель, биржевой воротила и красивая женщина!
Как-то в субботу Ивана навестил господин Ронэ. Он кратко изложил цель своего визита. Жители окрестных деревень из долины Бонда намерены ходатайствовать перед венским правительством и имперским советом об улучшении средств сообщения. В этом вопросе Иван заинтересован так же, как и другие, так что пусть он разрешит своим рабочим тоже участвовать в завтрашней общей сходке.
Иван наотрез отказал.
— На нас распространяется действие чрезвычайного закона, который запрещает политические собрания. А ваше собрание будет носить именно такой характер. Я соблюдаю высочайший указ.
Все же на следующий день собрание состоялось, и аббат Шамуэль произнес зажигательную речь. Его облик уже сам по себе внушал почтение, а речь была доходчивой и увлекательной.
Само дело настолько очевидно отвечало общим интересам, что никто ничего не мог бы возразить. А чтобы малейшая искра подозрения не пала на благодатную почву, столь непопулярное слово, как «Reichsrat»,[157] ни разу даже не упоминалось в его речи.
Единодушно решили выбрать двенадцать народных представителей, которые отправятся в Вену и выскажут пожелания простых селян. Так будет лучше всего.
Аббат Шамуэль назвал двенадцать кандидатов, а собравшиеся прокричали «ура!»
Бондаварское акционерное общество снабдит каждого посланца пропитанием на дорогу, а кроме того, новой сермягой, шляпой и сапогами.
К двенадцати новым сермягам всегда можно подобрать и двенадцать желающих их надеть.
Но и это было бы нелегким делом, ибо сермяжная душа подозрительна.
Она чурается братания с господами. А подарков боится уже потому, что знает: за них приходится дорого расплачиваться. Если бы зачинщиком всего был какой-нибудь барин, он встретил бы немало трудностей, но на сей раз им был священник, и священник высокого сана. Ему можно верить. Можно не бояться, что он поставит депутацию в такое положение, 'что им придется взвалить на себя все тяготы этой поездки, когда объявят, что они должны отдать свои дома и наделы, потому что тогда-то и тогда-то двенадцать человек ездили в Вену и там спустили дьяволу или еще кому все земное и небесное народное достояние.