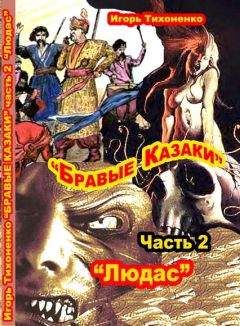Сад был большой и примыкал с одной стороны к костельному двору, с другой — к тракту, по которому Васарис недавно ходил мимо усадьбы к озеру и к лесу.
Ночь была ветреная и темная. Шумели липы, груды опавших листьев шуршали под ногами. Боязно было углубляться в черную чащу сада, но эта боязнь, эта таинственность так щекотали нервы, обостряли все чувства, что молодой ксендз, будто влекомый какой-то непостижимой силой, шел все дальше и дальше.
Вот и костельный двор. Он толкнул калитку и вошел за ограду. Здесь было светлее, видны были силуэты лип, костел с высокой башней и красноватые блики в окне против алтаря.
В углу двора Васарис различил черный крест. Он знал, что там похоронен ксендз-настоятель, построивший костел. Васарису холодно стало при мысли об этой могиле и лежащем в ней настоятеле, но он усилием воли заставил себя пойти прямо туда. По телу у него бегали мурашки, он чувствовал на лице что-то липкое, но продолжал идти дальше, стиснув зубы.
Вот и могила, обнесенная железной оградой, крест и надгробная плита, на ней чуть виднеются золотые буквы. Снять шляпу, преклонить колени и прочесть «Requiem aeternam»[118]? Нет, он не снял шляпы, не преклонил коленей и не стал читать молитву.
Постояв немного, Васарис повернул обратно. Ветер остервенело рвал полы и пелерину накидки.
Если бы кто-нибудь увидел его, то сказал бы, что старый настоятель встал из могилы и идет поглядеть на места своей земной жизни. А это был только молодой ксендз, поэт Васарис, не находивший себе покоя в жуткую осеннюю ночь.
Он вернулся в сад, вышел через другую калитку на тракт и повернул к усадьбе. Это было чистое безрассудство. Что бы подумали люди, увидев его в такое время на пути к усадьбе? Быть может, злой дух гнался за ним, помутил его рассудок, разбудил в сердце греховные чувства?
Ксендз, как призрак, приближается к парку и жадным взором пронизывает его таинственный мрак. В ушах его звучат циничные слова Стрипайтиса:
«О, этот парк видал безумные оргии».
«Баронесса? Эх, должно быть, прожженная бестия!..»
Вот главная аллея, ведущая к дому. Что это? В одном окне свет. Это, конечно, ее окно. Что она делает в такое позднее время?
Ксендз приостановился на минуту, стараясь вспомнить ее. Вот она перед ним как въявь со своей обворожительной улыбкой, в белой манишке, в лаковых сапогах.
Теперь Васарис знает, куда идет. Туда, где увидел ее впервые. Он чувствует, что это глупо. Он может встретить кого-нибудь, на него могут напасть собаки из имения, его может застигнуть дождь. Но он вбил себе в голову дойти до этого места — и дойдет.
Холодный осенний ветер дует ему в лицо, так что дыхание спирает. Полы накидки и сутаны относит назад, ноги путаются в них. Но Васарис, подавшись вперед всем телом, идет все дальше и дальше. Ему доставляют своеобразное наслаждение борьба с ветром и это сумасбродное путешествие.
Будто бы и сумасбродное? Для него, священника, который должен делать каждый шаг со смыслом, во славу божью, это путешествие — великий подвиг, бунт против собственного бездействия, против самоунижения, против серой обыденщины, которая душит, убивает его.
Ему захотелось перевести дух.
В эту темную, ветреную октябрьскую ночь его воображение расправило одно крыло…
А может быть, это взор красивой хозяйки усадьбы влечет его, как преступника, к месту преступления? Нет, баронесса — это грех. Она хороша собой и пленительна, но не так, как Люция. Красота ее — одно из средств соблазна. Ее взгляд и улыбка отравлены греховными обещаниями.
Совесть ксендза Васариса грызет какой-то червячок. Почему, рассказывая Люции о своих калнинских впечатлениях, он ни словом не обмолвился о встрече с баронессой и предстоящем посещении усадьбы? Он сознавал, что смолчал умышленно. Почему?..
Вот и пригорок, с которого он наблюдал трех странных всадников. Сейчас все поля тонули в непроглядной тьме, но он видел, как стройный, белогрудый всадник галопом скакал через поле и птицей перелетел ров.
Ксендз зашагал с горы дальше. Вот дерево, мимо которого он шел, когда напугал лошадь баронессы. Ксендз остановился — и вся сцена возобновилась в его памяти.
Баронесса ускакала с улыбкой, а он еще некоторое время стоял на одном месте, будто в ожидании.
Здесь, под горой, ветер потише, зато еще сильнее чувствуется, как бушует он на вершине и повсюду вокруг. Жалобно шумит в ветвях деревьев, воет над озером, свистит во мраке полей.
Васарис стоит, не решаясь сдвинуться с места. Все его нервы натянуты, как струна. Слух и зрение до того обострены, что он различает множество голосов и тонов в этой шумной симфонии осенней ночи. Он видит множество образов и оттенки самой тьмы.
Наконец он поворачивает обратно.
Ветер толкает его в спину, задирает на голову пелерину, забегает вперед, дует в лицо и стремглав мчится дальше, к парку, к саду настоятеля, к спящему селу Калнинай.
Деревья парка шумят об уютной близости жилья. В окне дома не видно больше света: госпожа баронесса захлопнула любовный роман, велела горничной унести пятисвечный канделябр, повернулась на другой бок и уснула на мягкой постели.
Ксендз вошел в сад настоятеля.
Нервы у него успокоились, он ощущает страшную усталость и отдыхает, опершись на ограду, довольный благополучно законченным походом.
Потом идет домой, с трудом нащупывая тропинку в темном саду.
Теперь Васарис не замечает уныния своих комнат. Если бы его бедное жилье превратилось в хоромы, устланные мягкими коврами, украшенные драгоценными произведениями искусства, он бы не заметил и этого.
Засыпая, он подумал, что когда пойдет в усадьбу, то будет разговаривать с госпожой Райнакене, как с доброй знакомой, потому что два раза уж встретился с ней на дороге.
IX
Вскоре после этого барон Райнакис зашел к калнинскому настоятелю, а на другой день все три ксендза получили от баронессы приглашение на чашку чая. Настоятель Платунас терпеть не мог эти визиты, но считал крайне необходимым поддерживать хорошие отношения с помещиком.
— Ничего не попишешь, придется отбывать барщину, — говорил он ксендзу Стрипайтису. — Управляющий и эконом совсем по-другому разговаривают, когда видят, что мы бываем у барона. Вот и выгодно. Иначе зачем бы мне туда ходить!
— Конечно, все дело в бароне, — соглашался Стрипайтис. — Православный или лютеранин — один черт. Он, может, и сам не стал бы водить с нами знакомство, но баронесса, ксендз настоятель, как никак усердная католичка. Ничего не скажешь: религиозные традиции глубоко укоренились в польской аристократии. А вообще-то я нисколько не верю в ее добродетельность.
— И аристократка она сомнительная. Сейчас, конечно, барыня, но родом не бог весть какая знатная. Управляющий мне однажды сказал, что до замужества баронесса была обыкновенной актрисой в варшавском кафешантане. Приехал барон покутить в Варшаву, а полячка и опутала его. Такие умеют. Вот вам и аристократка…
— Чем знатнее аристократ, тем скандальнее репутация жены, — рассуждал Стрипайтис. — Случается, что князья женятся не только на кафешантанных актрисах, а и на цирковых акробатках. В кафешантане хоть одни ноги показывают, а в цирке они, бестии, совсем нагишом выламываются.
Настоятель сплюнул от негодования и поправил:
— Не нагишом, — это законом воспрещается. Должно быть, обтягиваются особым трико.
— Не все ли равно! Издали кажутся голыми.
— Сам, что ли, видал?
— Вот и видал. Меня ведь рукоположили в ксендзы не где-нибудь, а в самой Варшаве. У нас тогда епископа не было. Вот меня один тамошний собрат и затащил. Побывали и в кафешантане и в цирке. Так, знаешь, ксендз настоятель, на другой день пришлось исповедаться… Кто таких девок никогда не видел — дьявольски действует… Эх, что это я разболтался! Вон Васарис уж рассердился.
— А вы как? Тоже хотите пойти в гости? — обратился настоятель к Васарису.
— Хочешь не хочешь, а если приглашают, то отказываться неучтиво, — резко ответил Васарис. Он уже начал испытывать недоброе чувство к настоятелю.
— Да вы и незнакомы.
— Так познакомимся. В конце концов не совсем и незнакомы. Недавно я встретил их всех, когда они катались верхом. Вот и познакомились.
— Время у вас есть, вы и любите прогуливаться в одиночку. Хе-хе…
Васарис вспыхнул и, еле сдерживаясь, сказал дрожащим голосом:
— Извините, но вы в который уж раз попрекаете меня каким-то особенным свободным временем! Я, кажется, выполняю свои обязанности наравне с другими. Может, и больше других делаю. Исповедовать приходится почти мне одному…
— Мы и вдвоем справлялись, когда вас не было, — проворчал настоятель.
— Тогда, пожалуйста, напишите об этом в курию. Как только получу другое назначение, уеду в тот же день без всякого сожаления. — Не дожидаясь ответа, Васарис встал из-за стола и вышел, едва сдерживая желание хлопнуть дверью так, чтобы окна зазвенели.