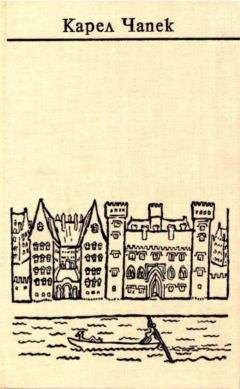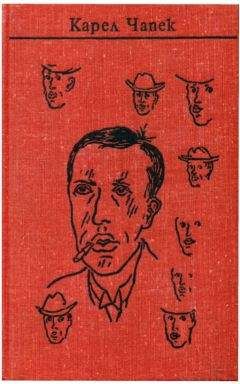Только шум гор и журчанье подземных вод, но — ни птички, ни мушки. Берегись, человек, ты вступил в царство растений. И тут тебя охватывает неодолимый, дивный ужас, который вдруг сразу проходит, только ты выбрался на опушку: на полях работают люди в огромных деревянных башмаках, с медной бляшкой в правом ухе, громко перекидываясь тяжеловесной горской неметчиной. Но только выйдя на твердый большак, тянущийся между березами и рябинами, вполне осознаешь, что нет для человека большего наслаждения, как чувствовать твердую, надежную почву под ногами.
С тех пор видел я и настоящий девственный лес: тот, что под Боубином. Это всего-навсего часть заповедника, так сказать, естественный парк. На каждом шагу невольно ожидаешь увидеть табличку с надписью: «Не ломайте деревьев!» или: «Не наступай на упавших великанов: они чувствуют, как ты». Такой девственный лес состоит главным образом из деревьев, вывороченных или совсем упавших. Почва там сырая, склизкая, как гриб, и завалена стволами, находящимися в разной степени разложения, так что невозможно двигаться ни вперед, ни назад. Это оставлено нарочно, чтобы было видно, какой чудовищный беспорядок наделает природа, если ее предоставить самой себе. Человек поражен и уже с удовольствием едет на Ленору[159] приведенными в порядок лесами, чувствуя к ним гораздо больше симпатии. Кербровский путеводитель говорит, что за этими ветвями спит «Принцесса Шиповника сном своим столетним», но я ее не застал: может быть, было слишком холодно — или она по понедельникам выходная.
Златая Стежка
Прахатице — бесспорно хиреющий город; он все никак не может прийти в себя, после того как перестали возить по Златой Стежке соль из Пасова. Если вы достаточно решительны и терпеливы, поезжайте туда поездом; в противном случае лучше двиньтесь откуда нибудь пешком. Теперь она стара и дряхла, но когдато была сплошь покрыта сграффито и фресками. Тут было царство Рожмберков, видимо страстных любителей ярких красок. Прежние прахатицкие горожане покрыли всю ратушу картинами и надписями; по самой середине фасада высится фигура юноши, во рту у которого ветвь и меч, на груди-львиная голова и медвежья лапа, а из руки его сыплются монеты: что это значит никому не известно. Потом идут разные сцены судебного характера: видимо, прахатинцы не раз страдали от несправедливости, и поэтому там изображены сцены суда Соломонова, а также, специально для удовлетворения порядочных людей, сцена свежевания заживо двух осужденных. Латинские надписи прославляют гражданские добродетели и заправил общины, а одна чешская надпись кончается классическим двустишием:
Закон — паутина: каждого затянет.
Но жук прорвется, а мошка застрянет.
Так разрисованы и старинная пивоварня и целый ряд других почтенных домиков. Многое уже стерлось; стерлась и таинственная надпись на костеле: «Quam cito transit tumana loje». Да, слава человеческая — дым. На воротах костела видны следы от ударов гуситских топоров и копий, и есть там в. левом крыле страшный каземат, где будто бы гуситы сожгли восемьдесят пять прахатицких католиков; те пытались бежать через окно, но сумели только погнуть решетку, которая до сих пор на месте. Я вошел в костел; там были капеллан, церковный сторож и всякий костельный хлам. Возле костела — старая-престарая школа, куда, говорят, ходил еще Ян Гус[160] и даже Жижка[161]. Городок до сих пор окружен городьбой, как тогда. И, как тогда, коровы в сумерках везут в город сено прахатицких крестьянствующих обывателей, позванивая своими колокольчиками, оплакивающими былую славу Златой Стежки.
Теперь вместо обозов по долине Волыньки ходит воларский состав из одного вагона с паровозом, набирающим воду и уголь на каждой станции, чтобы доехать до следующей. Он доходит и до Волар; это удивительный городок; когда-то на этом месте поселились тирольцы; они построили тирольский деревянный городок — с низкими тирольскими крышами и камня-ми на них, с альпийскими лугами вокруг и воларским языком, отчасти похожим на немецкий. К сожалению, часть Волар однажды выгорела; но воларцы остались прежними воларцами, как будто жили на острове; воларки никогда не выходят ни за кого, кроме воларцев, чтобы не растащить состоящих из навоза и дров воларских богатств по всему свету. Волары никогда не были представлены ни на одной международной конференции; а надо бы им быть воларским государством!
Деревни
Деревни на Шумаве всюду отличаются необычайной длиной: примерно от двух до двадцати километров.
Думается, есть там деревни, которых никто никогда от конца до конца не проходил. Перед домами, вместо палисадничка, навоз; возле каждой избы — ствол, выдолбленный в виде желоба, по которому течет родниковая вода. На каждом крыльце ряд деревянных башмаков, от огромных тяжелых до крошечных детских; в воскресенье такой башмак хорошенько обскабливают и, надев его, топают в костел. Язык тут выразительный и своеобразный; я не понимал ни слова; коровам кричат: «уот, уот, йова». А когда деревня по неизвестной причине вдруг кончилась, можно целыми часами идти по дороге, между берез и рябин, и часами — лесом, не встретив ни души; только вдали, завидев тебя, юркнет в лес контрабандист, несущий из Баварии шесть зеленых шляп на голове да мешок с солью за спиной. А вздумаешь побродить по опушке этих печальных и прекрасных лесов, — каждому грибнику известно, что лучшие грибы растут на опушке, такие крупные и смуглые, почти черные; при этом все время шагаешь через разные канавы, мочажины да дрожащую торфяную топь, — так оказывается: эти горы — сплошная вода; просто диву даешься, откуда только все это натекает. За волной холмов новая волна, и всюду лес, сплошной частый лес. Здесь все тянется в бесконечную даль — горы и деревни, леса и даже время, — такое протяжно-шумящее.
1925
Горы на пасху привлекают главным образом лыжников, туристов и просто любителей красивых видов.
Что до меня, — по-моему, больше всех получает тот, кто просто смотрит. Но предоставляю каждому наслаждаться на свой лад.
Лыжный спорт на пасху состоит по большей части в поисках снега. Где только среди ползучего кустарника или в лесу обнаружится квадратный метр снега, там тотчас появляется лыжник, старающийся хоть средней частью лыж (целиком они там не поместятся) проехать по этой заснеженной территории. Через какое-то время к ним (к этим самым лыжникам) до того привыкаешь, что в конце концов перестаешь над ними подтрунивать и бранить их.
Горный туризм заключается главным образом в выяснении, какого туристского домика мы еще не посещали. А так как этих домиков очень много, туристам хватает работы. В каждом домике — приветливая собака, цитрист и свиная корейка. У входа стоит множество лыж и толпятся юноши с девушками в тяжелых ботинках. Лыжи тоже довольно тяжелые; не понимаю, почему люди не пристегивают к ногам саней, рельс или металлических балок? Затем — в каждом домике продаются открытки, дающие наглядное представление о том, как выглядит он, когда на нем и вокруг него лежит слой снега толщиной в три метра. Пасхальные посетители особенно охотно покупают эти открытки и шлют домой — «привет с гор».
Наконец даже просто чистое любование тут неисчерпаемо содержательно и прекрасно, как и всюду.
Если вы хотите знать, как в горах одеваются, то я скажу вам, что стиль там очень разнообразный: от непромокаемых плащей и зонтов до гольфов и лыжных костюмов. Молодые люди, желающие обратить на себя особенное внимание, обвязывают головы тесьмой, а на ноги надевают квадратные чемоданы. Чем эта обувь нескладней, тем лучше; и в ней так здорово топать по доскам.
Солнце в горах делает что ему вздумается: то светит изо всех сил — так, что глазам больно, то становится объектом особого преклонения. Тогда люди мажут себе лицо мазью и лежат возле горного домика в шезлонгах, подставив физиономию под солнечные лучи, закрыв глаза и время от времени вздыхая: «Господи, как хорошо!»
Солнце жарит, а воздух ледяной, колючий и пахнет туристскими бутсами; случаев, чтобы при такого рода обжаривании кому-нибудь пришла в голову великая или вообще какая бы то ни было идея, неизвестно, но обряд этот совершается сосредоточенно, даже чуть не благоговейно и длится до тех пор, пока тебя снизу не начнет пробирать холод…
А бывает, вдруг набредешь на такое место, откуда на десятки километров виден сплошь один снег, искрящийся, ослепительный, почти жгучий. И снег этот густо усеян отдельными черными точками и черточками, кишащими, подобно бактериям на агар-агаре, в цепочках или попарно, а то и вовсе вразброд. Это лыжники, которые залыжничались. Одни распевают нечто среднее между «аналитик» и «холдидийо» — это немцы; другие кричат: «Тондо-а-а» — это чехи. Во всем остальном полное сходство — вплоть до нашивок на рукаве. Иногда кажется, будто они состоят из одной пары ног, метра в два длиной, идущих прямо от шеи вниз и скрепленных сверху норвежским шлемом либо тесьмой, о которой была речь; только после того, как лыжник кувыркнется в снег, вы убеждаетесь, что он состоит из удивительного, совершенно неожиданного количества конечностей и составных частей, которые приходится собирать, с большим трудом устанавливая, что к чему и как опять соединить все это вместе, чтоб оно могло встать.