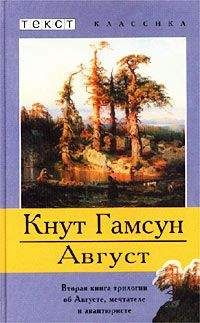— И ещё заплатил за быка, — не могла удержаться Поулине.
— Да, и ещё заплатил за быка, которого он украл из хлева у самого старосты. Короче говоря, я всегда благородно себя вёл по отношению к этому подонку, а он теперь, видите ли, хочет заявить на меня из-за какой-то ерундовой дырки в груди, о которой и говорить-то смешно...
Доктор, покачивая головой:
— Ну, не такая уж она и ерундовая!
Август, с живым интересом:
— Может, он умрёт от неё? Впрочем, всё это пустяки, я и сам за свою жизнь получил шесть колотых ран, да и сейчас у меня куча пуль в теле. Да-да. Мне даже один раз не разрешили лететь на Барбадос, до того я был нашпигован свинцом. Вот так-то. А разве я заявлял хоть на кого-нибудь?
— Послушай, Август, — сказал ему на прощанье доктор, возвращая трость, — на твоём месте я не стал бы разгуливать с этой игрушкой до тех пор, пока снова не окажешься в Южной Америке. Так что ступай и поставь её в угол.
Август собирался уехать в этот самый воскресный вечер, но почему-то не спешил, всё откладывал и откладывал.
Поулине подгоняла его, просила поторопиться, не то с ним опять может приключиться что-нибудь.
В ответ он заявил, что ему нужно сперва доделать кой-какие дела.
Поулине сказала, что он всё сочиняет, чтобы не выглядеть трусом.
Август оправдывался:
— Во-первых, мне надо отжать сок из моих листьев, которые лежат у меня под прессом, потом мне надо повесить колокольчик на дверях твоей лавки, как это делается в городах.
— Колокольчик?
— Чтоб тебе не надо было пользоваться замком и всякий раз запирать дверь.
— Уж ты придумаешь! Но это не к спеху...
— А ещё я хотел спуститься к берегу и поглядеть на свою фабрику, хорошо ли она там подсыхает, или мне надо ещё какое-то время её поливать.
— Чепуха какая, — сказала Поулине.
— Ничего не чепуха. Да, и ещё один важный вопрос: какое у нас сегодня число?
— Семнадцатое.
— Как раз! А я нарочно следил. Ты хоть раз видела, чтобы я отправился в путешествие восемнадцатого, а восемнадцатое как раз завтра. В этом я поклялся великой клятвой белому ангелу на небе в ту пору, когда был миссионером. Один раз я пытался нарушить эту клятву и восемнадцатого марта вышел в море на танкере, но больше никогда этого не сделаю. Меня укусила тогда ядовитая муха, и я много лет проболел.
Поулине было неловко за него, и потому она сказала:
— Как тебе не стыдно нести такую околесину! Ты дождёшься, что придёт ленсман. Он ведь твой лучший друг!
Август:
— Я уеду послезавтра.
— А вдруг это будет на день позже, чем надо...
Тем временем в Поллене происходили всевозможные события, которые отчасти рассеяли страхи Поулине и перевели её размышления в другое русло. В понедельник по селению прошёл слух, будто из Верхнего Поллена с утра пораньше заявилась кузнецова жена, чтобы забрать домой своих мальчиков. Видно, она не могла больше сносить попрёки соседок.
Всё получилось так, как и предсказывала Ане Мария: за год может всякое случиться, и потому, если она хочет взять на воспитание детишек, ей нужно поторапливаться, пока она занимает видное положение и располагает средствами. Теперь же это миновало, потому что дела у Каролуса и Ане Марии шли всё хуже и хуже. А мальчики были сыты и довольны, всегда чисто одеты, обуты в ботинки, они и читать выучились немного по новой азбуке, и вообще выглядели настоящими принцами, если вспомнить, как они жили прежде.
Ане Мария была глубоко удручена. Не в этом дело, она, как разумная женщина, сознавала, что рано или поздно час разлуки наступит. Она сказала себе, что в такие времена, как нынешние, у неё не хватит денег, чтобы содержать своих принцев как следует. Но беда в том, что она привязалась к этим мальчикам, она пекла им вафли, совала всякие лакомства, брала у Поулине молоко и благословляла каждый день, который они проводят в её доме.
А теперь всё миновало.
Мать была не слепая, она сразу смекнула, что дома её сыновьям будет гораздо хуже.
— Не похоже, чтобы они терпели у вас нужду, — сказала кузнечиха благодарным тоном. — Но теперь у вас только и хватает, что на самих себя.
Каролус, как человек тщеславный, чувствует себя уязвлённым.
— А кто это вам сказал?
Кузнечиха слышала это с разных сторон, а последний раз — нынче в церкви.
— Да пусть говорят, что хотят, — отвечает Ане Мария, — пока у нас достаточно денег и для себя, и тем более для мальчиков.
Женщина начала колебаться, вообще-то она не настаивает, и необязательно забирать детей именно сегодня.
— Ну уж нет, — говорит Ане Мария, — раз ты пришла за ними, так и бери их. А вы сами-то как живёте? У мужа есть работа?
— Да, от случая к случаю.
— Сколько ж вас всего едоков?
— Семь — со всеми детьми. Правда, нам малость помогает община.
— Ну, много она напомогает, — бормочет Каролус и задумчиво качает головой. — Небось приходится считать каждый шиллинг.
Ане Мария встаёт и ставит на стол молоко.
— Попейте молока, ребятки, — говорит она, — у вас впереди долгий путь.
Мальчики радостно возбуждены: им предстоит идти с матерью. Как и все дети, они любят перемены, теперь они снова вернутся домой посмотреть, как оно всё там. Но поскольку Ане Мария такая грустная, не смеётся и не шутит, дети тоже ведут себя очень сдержанно.
— Поблагодарите за молоко и за всё хорошее, попрощайтесь, и пошли, — наставляет их мать.
Эти маленькие ручонки хватали её за нос, теребили её волосы, щекотали её шею... И с Каролусом они проделывали то же самое: теребили его за бороду, дёргали за уши, рылись у него в карманах в поисках шиллингов — но ведь совсем другое дело, когда эти же самые ручонки протягиваются к тебе, чтобы попрощаться.
— Приходите снова, хоть ненадолго, чтобы проведать нас. Мы с вами поиграем в разные игры, — говорит Каролус.
Ане Мария начала спешить.
— Да-да, мальчики, конечно, а вот и ваши вещички, — говорит она матери, указывая на узелок.
— Боже милостивый! — восклицает та.
Не так уж и много было у неё причин всплескивать руками, но всё же в узелке лежала нарядная одежда, повседневная одежда, ещё смена, вдобавок букварь с петухом и аспидная доска с привязанным на шнурке грифелем. А сверх того гвозди, и камушки, и спички, и осколки стекла, словом, всё, что мальчишки таскают в карманах. Но свои маленькие топорики мальчишки должны были нести в руках.
Из дома вышли все вместе, и Ане Мария решила немножко проводить их. Но и Каролус хотел того же, он был крайне обижен и сказал ей:
— Разве только тебе хочется проводить мальчиков, разве я тоже не могу немножко проводить их?
Поулине из своей лавки видела, как уходят пять человек, а возвращаются лишь двое. Она сразу поняла, в чём дело. До Августа ли, когда в Поллене происходит так много всякого...
Прошёл слух насчёт сельди в Эйд-фьорде. Возможно, это был всего лишь слух, новая робкая надежда, но вообще-то Эйд-фьорд издавна славился косяками сельди, так что всё это могло и оказаться правдой. А если слух окажется правдой, как поступить хозяевам невода Роландсену и Габриэльсену — снова уехать из Поллена, продав свои роскошные дома, на которые, кстати сказать, никто не зарился? Или вернуться в свои прежние дома на Вестеролене, которые принадлежали теперь другим людям?
Возможно, они вообще совершили большую глупость, перебравшись из одной бухты в другую. Ничего не скажешь, сельдь — это всё равно что рейсовый пароход, он ходит много лет, по два раза в году. Но однажды возьмёт да и не явится, пройдёт мимо пристани. И тут уж ничего не поделаешь, это судьба. Тогда на Поллен опускалась тьма, никакой жизни, никаких шуток, нет чаек, нет крачек, скудный дымок над крышами, полленцы смотрят в землю, а земля вся занята под городские дома.
У Габриэльсена дела обстояли ещё не так худо. У него была большая шхуна с неводом, он мог с одним лишь помощником дойти на парусах к безлесным Лофотенам, доставить груз жердей и наколотых дров и заработать себе там на жизнь. Вдобавок Габриэльсен был молодой и проворный, и голова неплохая, не говоря уже о том, что гувернантка обучила его немецкому языку.
Вот с бывшим главой банка, Роландсеном, дело обстояло много хуже. В лавке рассказывали, что несколько дней назад он вернулся с юга и с тех пор прятался от людей и никуда не выходил. Не иначе родственники бросили его в беде и вдобавок запугали чем-то. Но ещё до обеда в понедельник прошёл слух, будто Роландсен надел свой будничный костюм, зюйдвестку и направился в Северный посёлок в надежде подрядиться на чью-нибудь шхуну, чтобы идти на Лофотены за сельдью, — такое с ним было в первый раз.
— Быть того не может! — недоверчиво воскликнула Поулине.
Одна из женщин клянётся и божится, что собственными глазами видела его в этом облачении, когда он направлялся в Северный посёлок.