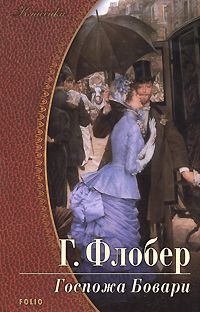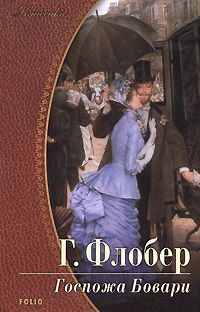Постепенно теряя все привязанности, он все глубже отдавался любви к ребенку. Но Берта беспокоила его: она часто кашляла, и на щеках у нее появились красные пятна.
А напротив наслаждалась жизнью цветущая, веселая семья аптекаря, которому шло впрок все на свете. Наполеон помогал ему в лаборатории, Аталия вышивала ему феску, Ирма вырезывала бумажные кружки для банок с вареньем, а Франклин одним духом выпаливал всю таблицу умножения. Омэ был счастливейшим из отцов, блаженнейшим из смертных.
Увы! Его грызло тайное честолюбие: ему хотелось получить крестик. В основаниях к тому недостатка не было: он 1) во время холеры отличился безграничной преданностью; 2) напечатал — и притом за свой собственный счет — целый ряд общественно-полезных трудов, как то… (и он припоминал свою статью «О сидре, его приготовлении и действии»; далее — посланные в Академию наблюдения над шерстоносной травяной тлей; наконец свою статистическую книгу и даже студенческую диссертацию по фармации); не говоря уже о том, что он состоит членом ряда ученых обществ (на самом деле он числился лишь в одном).
Тут аптекарь делал неожиданный поворот.
— Наконец, — восклицал он, — довольно уж и того, что я отличаюсь на пожарах!
И вот Омэ перешел на сторону власти. Он тайно оказал господину префекту значительные услуги во время выборов. Словом, он продался, проституировал себя. Он даже подал прошение на высочайшее имя, в котором умолял быть к нему справедливым; в этом прошении он называл государя «наш добрый король» и сравнивал его с Генрихом IV.
Каждое утро аптекарь набрасывался на газету и жадно искал, не сообщается ли там о его награждении; но ничего не находил. Наконец он не выдержал и устроил у себя в саду грядку в форме орденской звезды; от ее верхнего края отходили две полоски травы, изображавшие ленту. Омэ расхаживал вокруг этой эмблемы, скрестив руки, и рассуждал о неспособности правительства и человеческой неблагодарности.
Из уважения ли к памяти покойной, или из особой чувственности, которую он находил в медлительности, но Шарль так и не открывал еще потайного ящичка того палисандрового бюро, за которым обычно писала Эмма. Но однажды он, наконец, уселся перед ним, повернул ключ и нажал пружину. Там лежали все письма Леона. Теперь сомнений уже не оставалось! Он поглотил все до последней строчки, обыскал все уголки, все шкафы и комоды, все ящики, все стены; он рыдал, он выл, он был вне себя, он обезумел. Наконец он нашел какую-то коробку и разбил ее ногой. В лицо ему полетел портрет Родольфа и целый ворох любовных писем.
Окружающие изумлялись его отчаянию. Он перестал выходить из дому, никого не принимал, отказывался даже посещать больных. Тогда все решили, что он запирается и пьет.
Иногда все же какой-нибудь любопытный заглядывал через изгородь в сад и удивленно смотрел на дикого, грязного, обросшего бородой человека, который бродил по дорожкам и громко плакал.
Летом, по вечерам, он брал с собой девочку и уходил на кладбище. Возвращались они ночью, когда на площади не было видно ни огонька и освещенным оставалось лишь окошко у Бине.
Но сладострастие его горя было неполное; ему не с кем было поделиться им, и иногда он заходил поговорить о нем к тетушке Лефрансуа. Однако трактирщица слушала его одним ухом, у нее были свои огорчения: Лере, наконец, открыл постоялый двор «Любимцы коммерции», а Ивер, который пользовался отличнейшей репутацией по части комиссий, требовал прибавки жалованья и грозился уйти «к конкуренту».
Однажды Бовари отправился на базар в Аргейль продавать лошадь, — последний свой ресурс, — и встретил Родольфа.
Увидев друг друга, оба побледнели. Родольф, который после смерти Эммы ограничился тем, что прислал свою визитную карточку, сначала забормотал какие-то извинения, но потом осмелел и даже дошел в наглости до того, что пригласил Шарля выпить в кабачке бутылку пива (был август, стояли жаркие дни).
Усевшись напротив Шарля и облокотившись на стол, Родольф болтал и жевал сигару, а Шарль терялся в мечтах, глядя на того, кого она любила. Ему казалось, будто он видит что-то от нее. Это было изумительно. Он хотел бы быть этим человеком.
Родольф затыкал банальными фразами все паузы, в которые мог бы проскользнуть хоть намек; он не умолкая болтал о посевах, о скоте, об удобрениях. Шарль не слушал его; Родольф видел это и следил, как воспоминания отражались на лице врача; оно все больше краснело, ноздри раздувались, губы дрожали. Одно мгновение Шарль мрачно и яростно взглянул Родольфу прямо в глаза; тот осекся, словно испугавшись. Но вскоре несчастного охватило все то же грустное изнеможение.
— Я на вас не сержусь, — сказал он.
Родольф онемел. А Шарль, сжав голову руками, повторял погасшим голосом, с покорным выражением бесконечного горя:
— Нет, я на вас больше не сержусь!
И даже прибавил первое и последнее в своей жизни высокопарное слово:
— Во всем виноват рок!
Родольф, который сам направлял этот рок, нашел, что Бовари достаточно добродушен для человека в его положении, даже комичен и почти достоин презрения.
На другой день Шарль пошел в сад и сел на скамью в беседке. Солнечные лучи пробивались сквозь шпалеру винограда, листья вырисовывались тенью на песке, благоухал жасмин, небо было голубое, вокруг цветущих лилий жужжали жучки, и Шарль, как юноша, задыхался в смутном приливе любви, переполнявшей его измученное сердце.
В семь часов пришла Берта; она не видела отца с самого полудня.
Голова его была запрокинута и опиралась на стену, веки смежены, рот открыт, в руках он держал длинную прядь черных волос.
— Папа, обедать! — позвала девочка.
И, думая, что отец шутит с ней, тихонько толкнула его, — он свалился на землю. Шарль был мертв.
Через тридцать шесть часов, по просьбе аптекаря, явился г-н Каниве. Он вскрыл труп и не нашел ничего особенного.
Когда все было продано, осталось двенадцать франков семьдесят пять сантимов, на которые мадмуазель Бовари отправили к бабушке. Старушка умерла в том же году; дедушку Руо разбил паралич, и девочку взяла к себе тетка. Она очень бедна, и Берта зарабатывает себе пропитание на прядильной фабрике.
После смерти Бовари в Ионвиле сменилось три врача, но устроиться ни одному из них не удалось — так забивал их Омэ. Клиентура у него огромная; власти щадят его, а общественное мнение ему покровительствует.
Недавно он получил орден Почетного легиона.
Роман «Госпожа Бовари» был первым реалистическим произведением Гюстава Флобера. «Госпожа Бовари» знаменовала собою начало зрелого творчества писателя. В высшей степени напряженная работа над романом заняла около пяти лет: с сентября 1851 по май 1856 года.
В зарубежной критической литературе обычно ссылаются на конкретный случай, послуживший Флоберу стимулом к созданию романа. По свидетельству Максима Дю Кана, которое он приводит в своих «Литературных воспоминаниях», дело происходило будто бы следующим образом: закончив «Искушение св. Антония» (это была первая рукописная редакция его «философской драмы»), Флобер пригласил к себе друзей — Луи Буйле и Дю Кана (сентябрь 1849 года) и прочел им новое свое произведение. Друзья терпеливо его, выслушали, но затем подвергли «Искушение» жестокой критике. Они напали на отвлеченный, метафизический характер произведения и предложили Флоберу взяться за простой, обыденный сюжет в духе романов Бальзака «Кузина Бетта» и «Кузен Понс». «Почему бы тебе не написать историю Деламара?» — говорили они ему. Подобный выбор, по их мнению, помог бы Флоберу избавиться от власти необузданного лиризма.
Существует целая литература, посвященная вопросу об «истинной Бовари», то есть вопросу о том, кто именно послужил Флоберу прототипом героини его романа. Согласно весьма распространенной версии, в основу сюжета «Госпожи Бовари» легла история семейной жизни врача Деламара, практиковавшего в Ри (недалеко от Руана). Его супружеские несчастья (неверность жены) занимали любителей скандалов; соблазненная, затем брошенная любовником, жена Деламара Дельфина (до замужества — Кутюрье) отравилась. Французские исследователи Дюмениль, Дюбоск и другие утверждают, что «роман следовал действительности в ее мельчайших деталях».
Несомненно, во всяком случае, что в основу злосчастий Эммы — жены деревенского лекаря Шарля Бовари — Гюстав Флобер вложил богатое количество наблюдений над «провинциальными нравами». Так, например, в письме к Луизе Коле (14–15 июня 1853 года), касаясь наставлений, которыми аптекарь Омэ провожает клерка Леона Дюпюи в Париж, Флобер замечает: «Я, кажется, собрал на двух страницах все нелепости, какие рассказывают в провинции о Париже: студенческая жизнь, актрисы, мошенники, пристающие к вам в общественных садах, и ресторанная кухня „всегда более вредная, нежели домашняя кухня“». Чтобы описать жизнь Эммы в пансионе, Флобер решает погрузиться «в молочные океаны литературы о замках и трубадурах в бархатных беретах с белыми перьями». Он изучает книги по хирургии, необходимые ему для эпизода с оперированием искривленной стопы Ипполита. Флобер штудирует материалы, которые помогли ему с большой точностью описать смерть от отравления мышьяком.