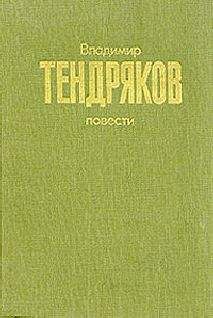Жалость к Митягину была, но слишком общая, отвлеченная, так жалеют, когда прочитают в газетах о пассажирах, погибших во время железнодорожной катастрофы. Нет, но жалость заставляла Дудырева верить Семену Тетерину, не она толкала – действуй, не успокаивайся, добивайся истины. Просто одна мысль – прикрываться слабым и беззащитным – была противна Дудыреву. Разве можно после этого относиться к себе с уважением? Жить с вечным презрением к себе – да какая же это жизнь!
При новой встрече со следователем Дудырев стал спокойно и твердо доказывать, почему верит Семену Тетерину. Если б охотник задался целью во что бы то ни стало спасти соседа, то поступал бы более осмотрительно. Он бы мог придать пуле нужную форму, а не обкатывать ее. Он бы понес пулю не к нему, Дудыреву, а прямо к следователю. Наивная доверчивость не совмещается с характером человека, который решился на заведомый обман… Сухостойное дерево… Но оно не прикрывало собой всю лаву. Нет прямого доказательства, что парень упал в воду точно на середине реки. Это догадки.
Когда Дудырев пункт за пунктом объяснял Дитятичеву, в кабинет, постукивая палкой, вошел прокурор Тестов, уселся в кресло, вытянув негнущуюся ногу, из-под сухих курчавых волос уставился черными прищуренными глазами.
Дудырев привык к уважению в районе, к тому, что его слово ловят на лету. Но на этот раз его напористые, решительные доводы не производили впечатления. Лицо Дитятичева было, как всегда, вежливо-бесстрастным, прокурор же с любопытством щурился, и под его жесткими ресницами в темных глазах пряталась снисходительная усмешка. И едва Дудырев замолчал, как следователь суховато и обстоятельно начал возражать:
– Ваши рассуждения не лишены интереса, но… отмахнуться от врачебной экспертизы, с распростертыми объятиями ринуться навстречу весьма сомнительным доводам охотника… К тому же, как кажется, он лицо заинтересованное… Друг Митягина…
А прокурор, внимательно глядевший до сих пор на Дудырева, отвернулся, спрятал лицо.
Они не соглашались и не собирались соглашаться. Дудырев, выступающий против Дудырева, – некий любопытный парадокс, чудачество почтенного человека, уверенного в своей полной безопасности. И Дудырев понял – им немного неловко за него: зачем эта неискренняя игра, к чему казаться святей папы римского?
А ведь прокурор Тестов славился по району как недюжинный человек. Он заядлый книголюб, знает наизусть стихи Блока и Есенина, ходит молва, что в обвинительных речах проявляет мягкость и уступчивость. Как он-то не понимает, что со стороны Дудырева не фальшь, не поза, а обычная норма поведения. Как не догадывается, чтo нельзя уважать себя, свершив подлость, пусть не своими, а чужими руками.
Дудырев против Дудырева. Он выступает против своего, известного всему району имени. Имя – бестелесный звук, но оно могуче, оно грозит прокурору и следователю осложнениями, заставляет их искать удобные пути, искать истину «под фонарем». И сам Дудырев, с его напористостью, твердостью, отделившись на время от своего имени, оказывается бессильным что-либо сделать…
– А все-таки прислушайтесь…– сказал он мрачно. – Прислушайтесь и не опасайтесь за то, что я окажусь в невыгодном положении. Мне легче будет, если я отвечу за свою вину, чем спрячусь за чью-то спину.
Последние слова он произнес с такой угрюмой настойчивостью, что прокурор с удивлением поднял голову, а бесстрастное лицо Дитятичева дрогнуло, слегка вытянулось. Они поняли наконец, что с ними не шутили, не играли в благородство.
Ответил прокурор:
– Хорошо. Мы еще раз попытаем этого Тетерина… И поверьте, беспристрастно.
– Именно этого я и добивался.
Дудырев вышел, а прокурор и следователь с минуту сидели молча. И только когда от крыльца донесся подвывающий звук стартера дудыревской машины, Дитятичев произнес:
– Черт его знает, донкихот какой-то.
Прокурор, задумчиво щуря глаза в угол, возразил после минутного молчания:
– Скорей Нехлюдов… Иной раз прорывается в душе русского человека эдакая совестливость, которая в Сибирь гонит вслед за ссыльной проституткой»
На следующий день Дитятичев вызвал к себе Семена Тетерина. Стараясь придать своему голосу мягкость, он попросил рассказать, как и при каких обстоятельствах была найдена пуля, не сможет ли Семен Тетерин назвать свидетелей, видевших пулю до того, как она была обкатана.
Обветренное лицо Семена потемнело еще сильнее.
– Нет пули, – ответил он глухо.
– Как так нeт? Вы eе доставали или не доставали?
– Считай, что нe доставал. Нету – и все.
Плотно сжав губы, следователь с презрением разглядывал охотника. Как обманчив бывает вид. Вот он сидит перед ним сгорбившись, тяжелые плечи покато опущены, лицо угрюмое, суровое, шрам на скуле придает особую диковатую силу – бесхитростное, честное лицо, а глаза прячет, отвечает с подозрительным раздражением, отрицает то, что говорил прежде.
– Мне нужно знать точно: нашли вы после врача пулю в трупе медведя или не нашли?
Долго молчал медвежатник, наконец выдавил:
– Не нашел…
– Значит, вы лгали мне в прошлый раз?
Снова молчание.
– Лгали или нет?
– Считай, как хошь…
Дитятичев ничего не выжал из Семена.
А Семен, шагая домой, вспомнил, как мягко, почти ласково начал свой допрос следователь. Лисой прикидывается, про пулю признаться понуждает, а для чего? Угадать нетрудно – решили его, Семена Тетерина, пришить к Митягину: мол, одна бражка, один и ответ держать. Прост ты, Семен Тетерин, лесная дубина. Долго ль им, ученым да сноровистым, вокруг пальца тебя обвести? Нет, шалишь, в лесу похоронена пуля, словечка о ней клещами теперь не вытащат. Но ведь они и без пули могут придраться. Запутают, придется на старости лет сухари сушить, в дальнюю дорогу за казенный счет ехать. Срамота какая!
С этого дня не укоры совести мучали Семена Тетерина, а страх. Все казалось, что за его спиной против него затевается страшное, тайное, непонятное, против которого нe попрешь, с чем не схватишься в открытую, не оборонишься кулаком. Бессильным чувствовал себя Семен, впервые в жизни бессильным и беспомощным, словно младенец.
Прошло лето, зарядили дожди, развезло дороги. В эту осень не было золотых деньков, не сияли березовые перелески под негреющим солнышком, не полыхали багрянцем осины, не заметало тележные колеи шуршащей листвой. Никто и не заметил, как оголились леса, как ударили первые утренники.
Всю осень воевали за хлеб. Многие учреждения в райцентре закрылись, служащие разъехались по колхозам. Дудырев отрывал рабочих от строительства, посылал на поля.
В суете и заботах люди совершенно забыли о несчастье, которое случилось во время охоты в середине лета. И если кто ненароком ронял об этом слово, равнодушно отмахивались – старые дрожжи поминать дважды.
Митягин жил по-прежнему тихой жизнью, из дому выходил только на работу, постарел, потускнел, как-то ссохся, казалось, стал меньше ростом. Он перестал выпивать, возился с ребятишками, копался на огороде, покорно сносил нападки сварливой Настасьи. В их семье наступил мир и покой, какого, пожалуй, не бывало со времен свадьбы.
Митягин и Семен Тетерин сторонились друг друга, при встречах перекидывались двумя-тремя ненужными словами, про охоту не вспоминали.
Семен, как и все, помогал колхозу – отремонтировал сушилку, работал на токах. В лес выбирался изредка, но в эту осень ему не везло – всего только и добычи, что принес лису-огневку. На одном из таких неудачных выходов Калинка сломала ногу, кость не срасталась – сказывался возраст, как-никак по собачьему веку старуха.
Временами и Семен забывал о несчастье, по нескольку дней не вспоминал о пуле. Но всегда после таких спокойных дней тревога охватывала с новой силой. Притихли, забыли, не напоминают о себе! Перед грозой-то всегда затишье бывает. Не могут же они забыть начисто, не миновать суда. Грянет гром – по кому-то ударит. Правда, следователь больше его не тревожил, с него, Семена, не взяли подписки о невыезде, как это сделали с Митягиным. Но что там подписка – знают, что и без нее Семен никуда не денется. Суд-то будет, уж спросят о пуле, начнут при народe пытать. Нет пули – и шабаш! Не хочет он принимать во чужом пиру похмелье.
По– прежнему с глухой тайной ненавистью вспоминал о Дудыреве. И больше всего возмущало, что люди в один голос хвалили начальника строительства: Дудырев собирается бараки сносить, каждой семье квартиру обещает, прогнал с работы половину снабженцев, он и обходителен, он и добр… Семен-то знает его доброту. Ох, люди -за полушку покупаются!…
При первых заморозках в дом к Семену ворвалась Глашка Попова, принесла повестку на суд…
Семена усадили в соседней комнате, в одиночестве. Он сидел и прислушивался к глухим голосам, доносившимся из-за стенки, представлял себе Митягина – на него глазеют из зала, шушукаются, показывают пальцами. Пожалуй, нет ничего на свете страшное, чем торчать вот так перед людьми покрытым срамом. Семен согласился бы выйти против разъяренной медведицы с голыми руками, чем оказаться сейчас в шкуре Митягина.