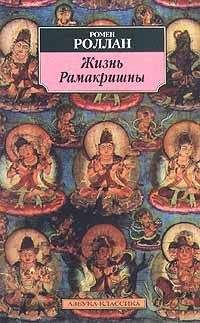Однажды, когда Аврора, сидя у своего старого друга, обещала ему, что придет в ближайшее воскресенье утром, Жорж, по своему обыкновению ворвавшийся вихрем, сказал Кристофу, что навестит его в воскресенье днем. В воскресенье утром Кристоф тщетно прождал Аврору. В час, назначенный Жоржем, она явилась, ссылаясь на то, что ей помешали и она не могла прийти раньше. Она даже сочинила целую историю. Кристофа забавляла эта наивная ложь.
— Жаль, — сказал он. — Ты застала бы здесь Жоржа; он приходил, мы завтракали вместе. Он занят и не может быть днем.
Аврора, расстроенная, не слушала больше Кристофа. А он, как назло, был в отличном настроении и говорил без умолку. Она отвечала рассеянно и дулась на него. Раздался звонок. Пришел Жорж. Аврора была поражена. Кристоф, улыбаясь, подмигнул ей. Она поняла, что он подшутил над ней, рассмеялась и покраснела. Он лукаво погрозил ей пальцем. Вдруг она бросилась к нему и обняла его. Кристоф прошептал ей на ухо:
— Birichina, ladroncella, rurbetta…[41]
Она зажала ему рот рукой, чтобы заставить замолчать.
Жорж не понимал, чем вызваны этот смех и объятия. Его изумленный и даже несколько возмущенный вид только усиливал веселость Кристофа и Авроры.
Так Кристоф содействовал сближению детей. А когда это ему удалось, он почти упрекал себя. Любя их обоих одинаково, он судил Жоржа строже, зная его слабости, и идеализировал Аврору. Кристоф чувствовал большую ответственность за ее счастье, чем за счастье Жоржа, ибо считал Жоржа почти сыном, частицей себя самого. Он спрашивал себя: уж не совершает ли он преступление, давая невинной Авроре такого, далеко не невинного, спутника?
Но как-то Кристоф случайно проходил мимо беседки, где сидели молодые люди (это было вскоре после их обручения), и у него сжалось сердце, когда он услышал, что Аврора шутя расспрашивает Жоржа об одном из его любовных приключений, а Жорж охотно рассказывает. Из обрывков других разговоров, которые они открыто вели при нем, Кристофу стало ясно, что Аврора гораздо снисходительнее относится к моральным воззрениям Жоржа, нежели он, Кристоф. Хотя они были страстно влюблены друг в друга, чувствовалось, что они не считают себя связанными навеки; у них выработалось свободное отношение к любви и к браку; в этом была известная прелесть, но это противоречило устаревшим взглядам на взаимную верность usque ad mortem[42]. И Кристофу становилось грустно… Как они уже далеко от него! Как быстро плывет лодка, уносящая наших детей!.. Терпение! Придет день, когда все окажутся в одной гавани.
А пока лодка, нисколько не заботясь о курсе, носилась по воле ветров. Было бы совершенно естественно, если бы этот дух свободы, который стремился изменить нравы того времени, утвердился также и в других областях умственной жизни и практической деятельности. Но ничуть не бывало; человеческая природа не замечает противоречий. И в то самое время как нравы становились свободнее, разум закрепощался, требуя, чтобы религия надела на него свой хомут. Эта двойственность, это движение в противоположных направлениях проявлялись с поражающим отсутствием логики в одних и тех же людях. Жоржа и Аврору увлекло новое католическое течение, захватившее часть светских людей и интеллигенции. Забавно было смотреть, как Жорж, бунтарь по природе, отъявленный безбожник, не веривший ни в бога, ни в черта, — настоящий молодой галл, издевающийся над всем, — вдруг заявил, что истина в религии. Ему необходима была какая-нибудь истина, а эта совпадала с его потребностью в деятельности, с его атавизмом французского буржуа и с некоторой усталостью от свободы. Молодой жеребенок набегался вволю; ему было приятно самому впрячь себя в плуг своей расы. Друзья подали пример — этого было достаточно. Жорж, весьма чувствительный к малейшему атмосферному давлению окружавших его идей, попался одним из первых. И Аврора последовала за ним, как пошла бы за ним куда угодно. Тотчас же у них появилась уверенность в своей правоте и презрение к тем, кто думает иначе, чем они. Ирония судьбы! Эти легкомысленные дети стали истинно верующими, в то время как Грация и Оливье, при всей их нравственной чистоте, серьезности, пламенном стремлении к идеалу, не могли обрести веру, несмотря на все свое желание.
Кристоф с любопытством наблюдал эту духовную эволюцию. Он не пытался бороться с ней по примеру Эмманюэля, чье свободомыслие возмущалось тем, что старый враг вернулся. К чему бороться с мимолетным ветром? Надо подождать, пока он утихнет. Человеческий ум утомлен. Он совершил недавно гигантское усилие. Его клонило ко сну; и, подобно ребенку, уставшему после целого дня беготни, перед сном он произносит молитву. Врата фантазии снова распахнулись; вслед за религией над умственной жизнью Запада пронеслись теософские, мистические, эзотерические, оккультистские веяния. Даже философия не устояла. Боги мысли — Бергсон, Уильям Джемс — пошатнулись. В самой науке обнаружились симптомы умственного переутомления. Пусть это пройдет. Дадим передохнуть. Завтра ум проснется еще более деятельным, живым и свободным… После того как хорошо поработаешь, полезно поспать. У Кристофа никогда не хватало на это времени, но он был счастлив за своих детей, которые наслаждаются вместо него отдыхом, душевным покоем, твердой верой и непоколебимой уверенностью в том, что их мечта осуществится. Он не хотел и не мог бы поменяться с ними. Но он думал, что скорбь Грации и тревоги Оливье нашли умиротворение в их детях, и хорошо, что это так.
«Все, что выстрадал я, мои друзья и множество неведомых мне людей, живших до нас, — все это для того, чтобы эти двое детей познали радость… Ту радость, для которой была создана ты, Антуанетта, и в которой тебе было отказано!.. Если бы несчастные могли вкусить то счастье, что принесет когда-нибудь их самопожертвование!»
Так зачем пытаться отнимать это счастье? Зачем желать, чтобы другие были счастливы на наш лад? Пусть они будут счастливы по-своему. Он лишь кротко просил, чтобы Жорж и Аврора не очень презирали тех, кто, подобно ему, не разделяет их веры.
Но они не снисходили до споров с ним. Казалось, они думали:
«Ему этого не понять…»
Кристоф был для них прошлым. И, не таясь, они не придавали прошлому большого значения. Им случалось иногда наивно обсуждать, что они будут делать потом, когда Кристофа «уже не станет»… И все-таки они очень любили его. Дети, дети! Они растут и оплетают нас, как лианы! Сила природы, спешащая прогнать нас…
«Уходи! Убирайся! Уступи место! Настал мой черед!..»
У Кристофа, который понимал их немой язык, возникало желание сказать им:
«Не торопитесь! Мне хорошо здесь. Помните, что я еще жив!»
Его забавляла их наивная дерзость.
Однажды, когда они особенно подавляли его своим высокомерием, он добродушно заметил:
— Скажите прямо, что я старый дурак.
— Да нет, мой друг, — сказала Аврора, смеясь от всего сердца. — Вы лучший из людей, но есть вещи, которых вы не понимаете.
— И которые понимаешь ты, девочка! Подумать только, какая ты мудрая!
— Не смейтесь надо мной. Я мало знаю. Но зато Жорж знает все.
Кристоф улыбнулся:
— Да, ты права, малышка. Тот, кого любишь, всегда все знает.
Но Кристофу было гораздо легче подчиняться их умственному превосходству, чем слушать их музыку. Они подвергали его тяжкому испытанию. Когда они приходили, рояль не знал ни минуты покоя. Казалось, что у них, как у птиц, любовь возбуждает желание петь. Но они были далеко не так искусны в этом, как птицы. Аврора не тешила себя иллюзиями насчет своего таланта; другое дело, когда речь шла о женихе. Она не видела никакой разницы между игрой Жоржа и Кристофа; возможно, она даже предпочитала исполнительскую манеру Жоржа. А тот, несмотря на свойственную ему иронию, готов был позволить убедить себя в этом в угоду своей возлюбленной. Кристоф не возражал: он не без лукавства поддакивал девушке и лишь изредка, выведенный из терпения, убегал к себе в комнату, громче, чем обычно, хлопнув дверью. С доброй и снисходительной улыбкой он слушал, как Жорж играет на рояле «Тристана». Бедный малый передавал бурные страсти с добросовестной старательностью и милой слащавостью молодой девушки, преисполненной лучших намерений. Кристоф смеялся про себя. Ему не хотелось объяснять молодому человеку причину своего смеха, и он молча обнимал его. Он очень любил его именно таким. Быть может, за это он даже любил его еще больше… Бедный мальчик!.. О тщеславие искусства!..
Кристоф часто беседовал о «своих детях» (так он называл их) с Эмманюэлем, который любил Жоржа и шутя уговаривал Кристофа уступить ему юношу. Ведь у него есть Аврора. Это несправедливо, он завладел обоими.
В парижском обществе об их дружбе создавались легенды, хотя они держались особняком. Эмманюэль горячо полюбил Кристофа. Из гордости он не хотел это показывать, скрывая свое чувство под внешней резкостью, а зачастую даже грубостью. Но Кристофа нельзя было провести. Он знал, что Эмманюэль предан ему теперь всем сердцем, и очень ценил это. Они виделись раза два-три в неделю. Когда Кристоф или Эмманюэль заболевали и сидели дома, они писали друг другу. Казалось, эти письма приходили из далеких краев. Внешние события интересовали их меньше, чем достижения в области науки и искусства. Они жили в мире своих идей, размышляли об искусстве или выискивали среди хаоса фактов крохотный, едва заметный проблеск, намечающийся в истории человеческой мысли.