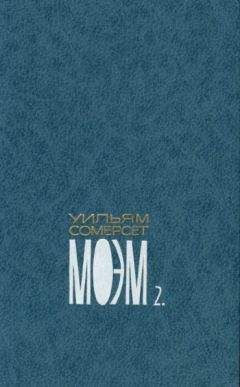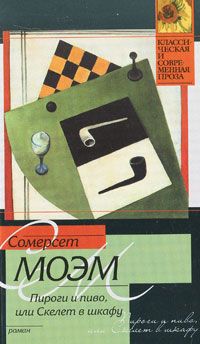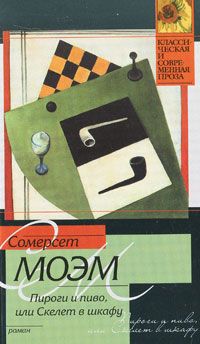Но катастрофа пришла. Джаспер Гиббонс издал второй томик стихов. Он был ничуть не лучше и не хуже первого, он был очень похож на первый. К нему отнеслись уважительно, но не без оговорок; некоторые критики даже позволили себе кое-какие придирки. Книга не принесла ни успеха, ни денег. И к несчастью, Джаспер Гиббонс оказался склонен попивать. Он не привык иметь столько денег, не привык к такому обилию развлечений и увеселений, а может быть, ему недоставало его простой, скромной женушки. Раз-другой он появился на обеде у миссис Бартон Траффорд в таком состоянии, какое человек, не наделенный ее светскостью и простодушием, мог бы назвать «пьяным до бесчувствия». Она же кротко говорила гостям, что наш бард сегодня не в ударе.
Третья его книга потерпела провал. Критики растерзали его на части, топтали ногами и, если можно процитировать здесь одну из любимых песенок Эдуарда Дриффилда, «швыряли по углам и валяли по столам». Они испытывали вполне понятную досаду от того, что приняли бойкого стихоплета за бессмертного поэта, и решили наказать его за свою ошибку. Потом Джаспера Гиббонса арестовали на Пикадилли за появление в пьяном виде и нарушение общественного порядка, и мистеру Бартону Траффорду пришлось в полночь отправиться на Вайн-стрит, чтобы взять его на поруки.
При таком положении вещей миссис Бартон Траффорд вела себя великолепно. Она не роптала. Ни одно резкое слово не слетело с ее уст. Можно было бы простить, если бы она была немного обижена на человека, для которого столько сделала и который так ее подвел. Но она оставалась нежной, ласковой и чуткой. Она все понимала. Она бросила его, но не так, как бросают раскаленный кирпич или горячую картофелину. Это было сделано с бесконечной мягкостью, столь же тихо, как катились по ее щекам слезы, которые она, без сомнения, пролила, когда приняла решение поступить столь противно своему характеру. Она бросила его с таким тактом, с таким благоразумием, что Джаспер Гиббонс, возможно, даже и не понял, что его бросили. Но в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Ничего плохого она про него не говорила, даже вообще не хотела о нем говорить и, когда о нем заходил разговор, просто улыбалась чуть грустной улыбкой и вздыхала. Но ее улыбка была для него coup de grâce[*47], а ее вздох — камнем на его могилу.
Миссис Бартон Траффорд слишком искренне любила литературу, чтобы позволить себе долго огорчаться из-за такой неудачи; и каким бы сильным ни было ее разочарование, она была слишком бескорыстна, чтобы те сокровища такта, симпатии и понимания, которыми ее наделило небо, могли пропадать втуне. Она продолжала вращаться в литературных кругах, посещать чаепития, приемы и вечера, всегда очаровательная, нежная, внимательная, но при этом осторожная, бдительная и преисполненная решимости в следующий раз, если можно так грубо выразиться, поставить на победителя. Вот тогда-то она и встретила Эдуарда Дриффилда и составила себе благоприятное мнение о его способностях. Правда, он был немолод, но тем меньше было шансов, что он, как Джаспер Гиббонс, не выдержит бремени славы. Она предложила ему свою дружбу. Он не мог не растрогаться, когда она со свойственной ей мягкостью сказала ему, что это просто безобразие, когда столь замечательные произведения остаются достоянием лишь узкого круга. Он был польщен. Каждому приятно услышать, что он гений. Она сказала ему, что Бартон Траффорд подумывает, не написать ли о нем серьезную статью для «Куортерли ревью». Она пригласила его на обед, чтобы он встретился с людьми, которые ему могут пригодиться. Она хотела, чтобы он познакомился с равными себе по уму. Время от времени она прогуливалась с ним по набережной, беседуя о поэтах прошлого, о любви и дружбе, и пила с ним чай в кафе-кондитерской. Когда миссис Бартон Траффорд появилась в субботу днем на Лимпус-стрит, она выглядела как царица пчелиного улья, готовящаяся в свой свадебный полет.
С миссис Дриффилд она вела себя безупречно, была любезна, но не снисходительна, всегда очень мило благодарила за разрешение зайти в гости и говорила комплименты. Расхваливая ей Эдуарда Дриффилда и объясняя с оттенком зависти в голосе, какая честь — наслаждаться обществом столь великого человека, она делала это исключительно по доброте сердечной, а не потому, что прекрасно знала: ничто сильнее не раздражает жену литератора, чем лестные отзывы о нем, исходящие от другой женщины. Разговаривая с миссис Дриффилд, она выбирала темы попроще, которые могли быть для нее интересны: говорила о хозяйстве, о слугах, о здоровье Эдуарда, о том, какая ему нужна забота. Миссис Бартон Траффорд вела себя с ней в точности так, как следовало женщине из очень хорошей шотландской семьи (каковой она и была) вести себя с бывшей буфетчицей, на которой угораздило жениться видного писателя: она была сердечна, игрива и старалась, чтобы миссис Дриффилд чувствовала себя с ней свободно.
И все-таки Рози почему-то терпеть ее не могла; миссис Бартон Траффорд была, насколько я знаю, единственным человеком, которого она не любила. В те годы даже буфетчицы не злоупотребляли «чертями» и «проклятьями», которые сейчас составляют неотъемлемую часть словаря самых благовоспитанных молодых дам, и я никогда не слыхал от Рози ничего такого, что могло бы шокировать мою тетю Софи. Когда кто-нибудь рассказывал при ней сомнительный анекдот, она краснела до ушей. Но миссис Бартон Траффорд она называла не иначе, как «эта проклятая старая кошка». Ближайшим друзьям Рози стоило величайших трудов уговорить ее вести себя с ней вежливо. «Не дури, Рози,— говорили они. Все звали ее «Рози», и скоро я тоже, хоть и очень робко, начал так ее звать.— Она может сделать ему карьеру, если захочет. Он должен к ней подлизываться. Она все может».
Хотя большинство субботних гостей появлялось у Дриффилдов раз в две-три недели, небольшая компания, в которую входил и я, бывала у них почти еженедельно. Мы составляли костяк собиравшегося здесь общества, приходили рано и оставались допоздна. И самыми верными из всех были Квентин Форд, Гарри Ретфорд и Лайонел Хильер.
Квентин Форд был коренастый человек с прекрасной головой того типа, который впоследствии одно время вошел в моду в кино: прямой нос, красивые глаза, коротко стриженные седые волосы и черные усы; будь он на четыре-пять дюймов выше, он выглядел бы классическим злодеем из мелодрамы. Мы знали, что у него «очень хорошие связи» и он богат; единственное его занятие составляло поощрение искусств. Он посещал все премьеры и все закрытые вернисажи, отличался требовательностью знатока и питал к произведениям своих современников вежливое, но огульное презрение. Как я обнаружил, к Дриффилдам он ходил не потому, что Эдуард гений, а потому, что Рози — красавица.
Теперь, вспоминая об этом, я не перестаю удивляться, что не видел столь очевидных вещей, пока меня не тыкали в них носом. Когда я впервые с ней познакомился, мне и в голову не пришло подумать о том, хороша она собой или дурна, а когда пять лет спустя, снова увидев ее, я впервые заметил, что она очень красива, я почувствовал некоторый интерес, но особенно об этом не задумывался. Я воспринял это как обычный порядок вещей — как солнце, садящееся над Северным морем, или как башни собора в Теркенбери. Я был поражен, когда услышал разговоры о красоте Рози, и, когда Эдуарду говорили, как она хороша, а он на мгновение взглядывал на нее, я следовал его примеру. Лайонел Хильер был художник и просил Рози позировать ему. Когда он рассказывал о картине, которую собирался писать с Рози, и объяснял мне, что он в ней видит, я слушал его с глупым видом, озадаченный и смущенный. Гарри Ретфорд знал одного из модных фотографов того времени и, договорившись о каких-то особых условиях, повел Рози сниматься. Спустя неделю-другую мы получили отпечатки и долго их разглядывали. Я еще никогда не видел Рози в вечернем платье. Оно было из белого атласа, с длинным треном, пышными рукавами и низким вырезом; причесана она была тщательнее обычного и совсем не походила на ту крепкую молодую женщину в соломенной шляпке и крахмальной блузке, которую я впервые встретил на Джой-лейн. Но Лайонел Хильер нетерпеливо отшвырнул фотографии.
— Дрянь,— сказал он.— Разве может быть Рози на фотографиях похожа на себя? В ней самое главное — краски.— Он повернулся к ней.— Рози, вы знаете, что ваши краски — это чудо из чудес?
Она молча взглянула на него, но ее полные красные губы сложились в ту самую детскую, озорную улыбку.
— Если я смогу передать хотя бы намек на это, я прославлюсь на всю жизнь,— сказал он.— Все жены богатых биржевиков приползут ко мне на коленях и будут умолять меня нарисовать их так же.
Вскоре я узнал, что Рози ему позирует. Я еще никогда не был в мастерской художника и считал ее вратами в мир романтики. Но когда я спросил, нельзя ли мне зайти взглянуть, как продвигается картина, Хильер сказал, что пока не хочет никому ее показывать. Это был тридцатипятилетний человек с цветущей внешностью, похожей на портрет Ван-Дейка, если бы изысканность в нем заменить добродушием. Он был чуть выше среднего роста, строен, носил пышную гриву черных волос, длинные усы и эспаньолку. Ходил он в испанских плащах и широкополых сомбреро. Он долго жил в Париже и с восхищением рассказывал о художниках, про которых мы и не слыхивали: о Моне, Сислее, Ренуаре; а о сэре Фредерике Лейтоне, мистере Алма-Тадема и мистере Дж.-Ф. Уоттсе, которыми в глубине души восхищались мы, отзывался с презрением. Я часто подумываю, что с ним сталось потом. Несколько лет он провел в Лондоне, пытаясь пробить себе дорогу, но, по-видимому, потерпел неудачу и уехал во Флоренцию. Мне говорили, что у него там художественная школа, но, когда много лет спустя я туда попал и начал о нем расспрашивать, я так и не нашел никого, кто бы о нем слыхал. По-моему, у него был кое-какой талант, потому что я до сих пор явственно помню написанный им портрет Рози Дриффилд. Интересно, что случилось с этим портретом. Погиб ли он или затерялся, прислоненный лицом к стене, на чердаке лавки старьевщика в Челси? Мне хотелось бы верить, что он нашел себе место хотя бы в какой-нибудь провинциальной художественной галерее.