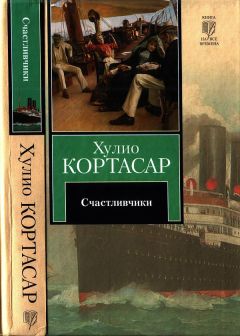В каюте никого не было. Рауль посмотрел на дверь в глубине, заколебался. Не может быть, чтобы у него хватило храбрости… Да нет, может. Он толкнул дверь, вошел в коридор. Увидел трап. «Он добрался до кормы, — подумал Рауль, пораженный. — Раньше всех добрался до кормы». Сердце металось и билось, точно летучая мышь. Потянуло табаком, он узнал запах. Из-за двери слева слабо сочился свет. Он медленно открыл дверь, посмотрел. Летучая мышь разорвалась на тысячи кусочков, взрыв едва не ослепил его. Надсадный храп Боба раздирал тишину. Распластавшись между стеною и Фелипе, синий орел хрипло подымал и опускал крылья при каждом всхрапе. Волосатая ножища замком зажимала ноги нелепо скорчившегося Фелипе. Пахло блевотиной, табаком и потом. Сумасшедше раскрытые глаза Фелипе, не видя, смотрели на застывшего в дверях Рауля. Боб храпел все громче, дернулся, будто вот-вот проснется. Рауль шагнул вперед и оперся рукою о стол. Только тогда Фелипе узнал его. Нелепо закрыл руками живот, попытался выбраться из-под грузной ноги, та в конце концов сползла с него, Боб зашевелился, что-то забормотал, все его жирное тело содрогнулось, словно в кошмаре. Сидя на краю матраца, Фелипе потянулся за одеждой, шаря рукою по полу, по своей блевотине. Рауль обошел стол и ногою подтолкнул ему разбросанную одежду. Почувствовал, что его сейчас тоже стошнит, и отступил в коридор. Прислонившись к стене, ждал. Трап на корму был всего в трех метрах, но он даже не взглянул на него. Он ждал. Даже плакать не мог.
Он пропустил Фелипе вперед и пошел следом. Они миновали первую каюту и фиолетовый коридор. Когда подошли к трапу, Фелипе взялся за поручни, повернулся и медленно сполз на ступени.
— Дай мне пройти, — сказал Рауль, неподвижно стоя перед ним.
Фелипе закрыл лицо руками и разрыдался. Он казался совсем маленьким, ребенок-переросток, которого обидели и он не может этого скрыть. Рауль уперся в поручни и, подтянувшись, перемахнул на верхние ступени. Из головы не шел синий орел, как будто о нем надо было помнить ежесекундно, чтобы сдержать подступавшую к горлу мерзость и добраться до каюты, не выблевав ее в коридоре. Синий орел, символ. Именно этот символ — орел. О трапе на корму он даже не вспомнил. Синий орел, ну конечно, вся мифология словно ужалась до дайджеста, достойного своего времени, орел и Зевс, ясно как день, символ, синий орел.
H
Еще раз, возможно, последний, но кто может это знать; здесь все неясно, Персио предчувствует, что час соединения планет уже пробил и обрядил кукол в соответствующие одежды. Желающий да узрит, и Персио, один, у себя в каюте или на палубе, дыша тяжело, видит, как в ночи прорисовываются куклы, поправляют парики и прерванный вечер продолжается. Свершилось, он достиг: самые темные слова каплями падают из его глаз, на мгновение застывают, дрожа, на губах. Он думает: «Хорхе», и это оборачивается огромной зеленой слезой, она катится вниз, миллиметр за миллиметром, запутывается в бороде и оседает горькой солью, которой не выплюнуть во веки веков. Ему уже не хочется провидеть корму: то, что там есть, откроется в другую ночь, другим людям, когда отворятся задраенные двери. На краткий миг в нем затеплилась тщеславная мысль, что он провидит, что всеобъемлет внутренним взором, и возникла смутная уверенность в том, что есть некий центр, из которого каждый разрозненный элемент может быть виден, точно спица колеса…
Огромная гитара в вышине странно замолкла, «Малькольм» покачивается на резиновых волнах под меловым ветром. И может, потому, что он уже не старается провидеть корму, а вся его маниакальная воля сосредоточена на тяжком дыхании Хорхе и на отчаянии, залившем лицо его матери, и сам он сдается плохо различимому настоящему, заключенному в нескольких квадратных метрах палубы, зажатых бортами судна и беззвездным морем, может, именно поэтому Персио гвоздит мысль, что корма и на самом деле (хотя никто так не считает) — его горькое провидение, его несостоявшийся судорожный порыв, его самое необходимое и самое несбывшееся дело. Клетки с обезьянами, львы, кружащие по палубе, вся пампа, брошенная навзничь, стремящиеся ввысь побеги копиуэ, все воплощается теперь в этих кукол, которые уже приладили маски и парики, в эти танцующие фигуры, которые повторяют на любом судне линии и окружности человека с гитарой (которого Пикассо писал с Аполлинера), и они же — поезда, которые отправляются и прибывают на португальские железнодорожные станции, и еще миллионы других происходящих одновременно вещей с их такой ужасающе-бесконечной одновременностью, что все — если не подвергнуть это осмыслению — обрушивается космической смертью; и все — если не подвергнуть это осмыслению — называется абсурдом, называется идеей, называется, как говорится, за деревьями не видеть леса, за каплей — моря, променять женщину на бегство в абсолют. Но куклы уже тут, в полной готовности, и танцуют перед Персио, разодетые-расфранченные, есть тут и чиновники, которые в свое время решили какие-то сложные проблемы, есть и те, что носят имена людей, плывущих на этом судне, есть среди них и сам Персио, точно такой же лысый, шумер, служитель аккадского зиккурата[90], корректор в издательстве Крафта, друг заболевшего мальчика. Как же не вспомнить вовремя, что все, того и гляди, разрешится насильственным образом, ведь рука уже нашаривает в ящике револьвер, и кто-то плачет в каюте, уткнувшись лицом в подушку, как же не вспомнить об этом Персио, знатоку деревянных людей из жалкого рода исконных марионеток? Танец их неуклюж, точно танцуют бобовые стручки или автоматы; жалкие деревяшки, сработанные безрадостно и скупо, они скрипят и вихляются, и все у них деревянное — и лица, и маски, и ноги, и детородные органы, и тяжелые сердца, в которых что ни осядет, все скисает, все створаживается, внутренности жадно накапливают густую массу, руки вцепляются в другие руки, чтобы удержать на ногах тяжелое тело, благополучно закончить поворот. Придавленный усталостью и отчаяньем, утомленный ясновидением, которое не принесло ему ничего кроме еще одного возврата к самому себе и еще одного падения, присутствует Персио на этом танце деревянных кукол, первом акте американской судьбы. Сейчас их покинут недовольные боги, сейчас собаки, посуда и даже жернова восстанут против неуклюжих, обреченных големов, и обрушатся на них, чтобы разнести их в куски, и танец осложнится смертью, фигуры осыпятся зубами, волосами, ногтями; и под тем же равнодушным небом сгинут несчастные образы, а здесь, в сиюминутном сейчас, где Персио обретается тоже, не переставая думать о заболевшем мальчике и о грядущем смутном утре, танец продолжат стилизованные фигуры, тщательно ухоженные ногти покроются лаком, тела облачатся в одежды, внутренности насытятся гусиной печенкой и мюскадом, надушенные и гибкие тела будут танцевать, не зная, что все еще танцуют танец деревяшек, что, возможно, это преддверие бунта и что весь американский мир — сплошной обман, но глубоко роют муравьи и броненосцы, и делают свое дело влажные вихри, и реют кондоры над прогнившей добычей, там, где есть еще вожди-касики, любимые и чтимые народом, и женщины, что всю жизнь проводят за прялкой, и банковские клерки, и футболисты, и гордые инженеры, и поэты, упрямо верящие в свою значительность и трагичность, и грустные писатели, пишущие о грустных вещах, и города, запачканные равнодушием. Загораживая глаза, в которые корма вонзается точно шип, Персио чувствует, как прошлое, бесполезно исправленное и приукрашенное, обнимает сегодняшний день, который пародирует его, подобно тому, как передразнивают обезьяны людей-деревяшек и как люди из плоти и крови пародируют деревянных людей. И все, что случится затем, будет точно так же иллюзорно, развязка судеб выльется в пиршество добрых или недобрых чувств, в одинаково сомнительные поражения и победы. Глубинная двусмысленность, непоправимая неразрешимость заложена в самой сердцевине всех решений: в этом маленьком мирке, точно таком же, как все остальные миры, все остальные поезда, все остальные гитаристы, все остальные суда с их кормой и носом, в маленьком мирке, без богов и без людей, на рассвете танцуют марионетки. Что ты плачешь, Персио, что ты плачешь; из таких вещей иногда возгорается пламя, их такого сора рождается песня, когда куклы поглотят последнюю горсть своего пепла, возможно, родится человек. Возможно, он уже родился, а ты его не видишь.
XL
— Пять минут четвертого, — сказал Лопес.
Бармен ушел спать в полночь. Мэтр за стойкой позевывал, но оставался верен слову. Медрано, сглатывая горечь от табака и скверной ночи, поднялся, чтобы еще раз заглянуть к Клаудии.
Лопес, сидя один в глубине бара, решал вопрос: отправился ли Рауль спать. Странно, что Рауль ушел с сегодняшнего вечера. Он видел его немного спустя после того, как унесли Хорхе в каюту: в коридоре правого борта, прислонясь к переборке, он курил, лицо у него было бледное и усталое; однако он волновался вместе со всеми, когда пришел врач, и принимал участие в разговоре, пока Паула не вышла из каюты Клаудии, и тогда они оба, о чем-то коротко поговорив, ушли. Картины беспорядочно мешались, и Лопес восстанавливал их в памяти, прихлебывая коньяк или кофе. Рауль у переборки, курит; Паула выходит из каюты, на ее лице выражение (но можно ли понять, что выражает лицо Паулы и что при этом думает сама Паула?); они смотрят друг на друга так, словно встреча эта для них неожиданна — Паула удивлена, а Рауль почти раздражен, — и оба направляются к центральному переходу. Именно тогда Лопес спустился вниз и больше часа находился на носовой палубе, смотрел на капитанский мостик, где никого не было видно, курил и от гнева и унижения пропадал в праздном и почти приятном бреду, где снова и снова возникала Паула и проносилась мимо, и каждый раз он протягивал руку, чтобы ударить ее, и тут же опускал, и желал ее, желал до беспамятства, и знал, что не сможет сегодня ночью уйти к себе в каюту, что нужно оставаться тут и караулить, и напиться до безобразия или разговаривать, и забыть, что еще раз она отказалась пойти с ним и теперь спит рядом с Раулем, или слушает, как он рассказывает ей о том, что было на вечере, и тут Паула снова проносилась мимо него, как на карусели, обнаженная Паула, совсем близко, можно коснуться рукой, Паула в красной блузке, при каждом повороте круга — разная. Вот она в бикини или в пижаме, которой он не знал. И снова Паула обнаженная, лежа ничком, спиной к звездам, Паула, напевающая «Un jour tu verras», Паула, ласково говорящая ему «нет», просто чуть качнула головой раз и другой: нет, нет. Вот тогда Лопес и пошел в бар напиваться и уже два часа бодрствует вместе с Медрано.