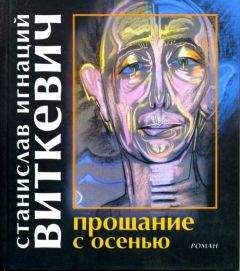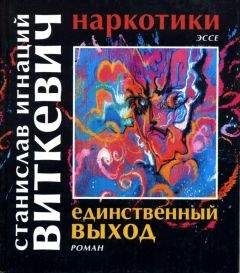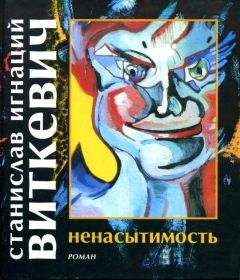Атаназий «провел» ночь у постели Гели. Все было закрыто таким толстым слоем угрызений совести, что он не видел ее красоты за жутким, кошмарным ворохом каких-то красно-коричневых и черных материй не от мира сего. И все-таки жил он только благодаря ей. Возможно, не будь ее, его желание не умереть подлецом оказалось бы слишком слабым, и он подвергся бы одному из тех самоубийственных припадков, которых у него случалось от пяти до семи на дню. Он не понимал, что могут случиться вещи еще более подлые, и что тогда? То, что произошло, «возвысило», сублимировало его чувства к Геле, по крайней мере на данный момент. И при этом он чувствовал, что без нее совершенно одинок в жизни, что его больше ничего не ждет. Безобразным жирным пятном растеклась мысль, что без нее ему придется подыскивать место работы и начать работать, зарабатывать на хлеб в непривычных для него бытовых условиях, под властью социалистов-крестьяноманов. Но с этим он худо-бедно справился благодаря уверенности, что в конце концов может в любой момент пустить себе пулю в лоб. Странное это было понимание. Ничуть не таясь, мерзость жизни щерила желтые прогнившие зубы и сладострастно высовывала из смердящей пасти обложенный черный язык. Боль и мука в принципе могли быть прекрасны, но в данном случае — нет. Зося ушла из жизни, с изысканным презрением дав ему моральную пощечину, зная о том, какие страдания это ему несет. Это немного сглаживало угрызения совести — в отдельные моменты, разумеется. Безграничная мука длилась до шести утра. Сидя он заснул и проспал до семи. И это адское пробуждение, с ясным ощущением, что все начинается снова: сначала беспредметный страх, что что-то произошло, но пока неизвестно что, а потом адская лента событий раскручивалась в памяти и пыточная машина хватала Атаназия в свои зубчатые колеса и трансмиссии. Он ежечасно плакал. Казалось, каждая секунда прошлого и была уже самым худшим, что теперь должно прийти, начаться хоть какое-то улучшение. Куда там: чем дальше, тем хуже. В один прекрасный день, в один прекрасный час госпожа Ослабендзкая заговорила, как заведенная. (Бедная старушка, видя неподдельные муки зятя, обманутая им, полагала, что дело было в ребенке, и простила ему немножко — не слишком, но все-таки. Выстрел князя в Гелю ей представили как совершенно не относящуюся к делу историю. Она никого не расспрашивала, и никто не посмел ничего ей рассказать.) «Время лечит все. В конце концов, я знаю, что никогда и ни в чем не бывает виноват только кто-то один и что ты очень страдаешь. Я прощаю тебя, потому что знаю: поначалу ты любил ее больше, и если бы она сумела направить это чувство несколько иначе, то не случилось бы ничего такого. Может быть, лет через пять вы разошлись бы с миром. Что поделаешь. Выдержи это и будь счастлив. Пусть это научит тебя больше ценить чувства других. Время лечит всё. Мы больше не увидимся — да и зачем? Сомневаюсь, что у тебя будут какие-либо финансовые претензии...» Здесь Атаназий прервал эту речь взрывом плача. Она протянула ему руку. Он не посмел сказать ей правду — может, и лучше для нее. Как знать.
Но было и нечто совершенно непереносимое. Он должен был присутствовать при вскрытии, потому что так захотел прибывший на эту церемонию прокурор, который что-то еще подозревал и носился с какими-то странными суевериями, типа «кровь трупа брызнет на убийцу». Кровь не брызнула. Но Атаназий видел, как из кровавого нутра Зоси (некогда столь любимой) достали его ребенка — это был сын, ему было несколько месяцев, Мельхиору Базакбалу, цвета сырого куриного пупка. Этот удар был слишком тяжел. Он уже не заплакал при виде этого, но рухнул как подрубленный, и очи его прикрыла ласковая чернота. Впервые в жизни он по-настоящему потерял сознание, и это было одно из его самых приятных воспоминаний того периода, кроме пары часов безумной зубной боли, он тогда не чувствовал ничего. И эти господа наконец поняли, что к физической части убийства он не имел отношения, а наказывать его за моральную часть они не имели права.
Похороны состоялись в чудный мартовский день, последний день месяца. Горы сияли чистым, свежим розовым снегом, да и в долине его хватало. Казалось, что зима в разгаре, и у Атаназия в памяти со страшной отчетливостью пронеслись все дни с осени до нынешнего дня, а в особенности то, что было посредине: спорт и покинутая Зося. И хотя он весь был изъеден угрызениями совести, как сыр червями, на похоронах он сохранял маску спокойствия — эту задачу ему облегчила милость, оказанная госпожой Ослабендзкой: он вел ее под руку за гробом. Зосю свезли на кладбище самоубийц, находившееся тут же, за стеной «настоящего» кладбища. Епископ не позволил ее хоронить там, и был прав. Памятник — серый, прямой, немного стилизованный камень — должен был изготовить один из лучших учеников Кароля Стрыенского, специально приглашенный для этого из Закопане.
Мука душила Атаназия, как палач, наделенный просто дикой изобретательностью по части пыток. Не с одной стороны, так с другой — она всегда умела уязвить его как можно больнее. Он ощущал эту муку как какое-то почти реальное существо, постоянно живущее в нем. Оно выходило на мгновение (может быть, по какой-нибудь надобности?), чтобы тут же вернуться и начать все сызнова, с каждым разом все хуже, по-другому. Угрызения совести, явленные во всевозможных обличьях, прорастали в душе волокнами, каждое из которых становилось новым центром боли. По возвращении с похорон (было шесть часов вечера, и горы сияли чудесным далеким заревом давно закатившегося солнца) Атаназий, созерцая прекрасный пейзаж, признался Геле, что больше не намерен жить. Он был как малое дитя и в том, что он говорил, и как вел себя, но несмотря ни на что всколыхнул в Геле какие-то маточные (материнские?) чувства — даже в ней, в этом отъявленном бесплодном демоне. Только госпожа Ослабендзкая, которая наконец уехала, оставалась холодной до конца. Но она и так выказала массу положительных черт, которые до сих пор никто не хотел признавать за ней. Атаназий вспоминал ее с некоторым чувством благодарности, невзирая на то, что их страдания были несопоставимы, чего она никоим образом признавать не хотела.
Не приближаясь к Атаназию, Геля (а на ее прикосновение он реагировал как на раскаленное железо) начала мягко уговаривать его подождать до завтра. Она утверждала, что кризис должен пройти, что никто еще от одной только муки не умер, что того и гляди наступит тот момент, когда что-то перевернется и постепенно начнет вытеснять воспоминания. Она говорила так, опершись на локоть, грустно глядя на гаснущий на вершинах бледно-оранжево-красный проблеск вечерней зари. Атаназий взглянул на нее, впервые после долгого перерыва, и понял, что любит ее больше всего на свете. Досадно, даже просто-таки противно, но это было правдой. Но какие же бездны ужаса все еще оставались между ними! Кто из них сумеет завалить их и чем — новой гадостью? Какие же чувства нужны для того, чтобы свести на нет почти что физическое отвращение к ней, угрызения совести из-за убийства невинного любящего его существа, и это отвращение к себе, худшее из отвращений... Он чувствовал себя так, как будто весь был покрыт какой-то вонючей липкой слизью или гноем. И плюс к тому тупая, невыносимая боль, без локализации, охватившая, казалось, все мироздание. И это презрение, выраженное в последнем письме, эта «пощечина», от воспоминания о которой он весь горел гадким стыдом бессильного труса. «Духу моему дала по морде и пошла», — повторял он фразу из «Неисправимых» Словацкого. Нет, этого уже слишком. До завтра, может быть, доживу, а дальше?... Нельзя больше жить с этой мукой. О Препудрехе не было ни слова.
Логойский ходил мрачный, демонстрируя явное отвращение к Геле и Атаназию, но не уезжал. Не на что было, а одалживаться не хотел, в городе же ему делать было нечего. Работать? Ah, non, pas si bête que ça[66]. Вообще к богатству семьи Берц относились как к чему-то само собой разумеющемуся и пользовались им без попыток выказать благодарность. Скорее возникли бы претензии к ним, если бы они были не такими предупредительными и гостеприимными, какими были на самом деле, чем благодарность за то, что они были такими. Если уж появится такое отношение, от него не избавиться. Логойский снова занялся соблазнением молодых горцев, и даже начал писать на простонародном диалекте что-то вроде популярного «Коридона» для низших классов: «Диалог газды с чертом о заднице» — так предстояло называться этому труду. В этом деле ему помогал Ясь Баранец, обращенный в новую веру в «высшую» дружбу. Препудреха (о котором не было речи) перевели в тюрьму провинциальной столицы. И хотя все время его пребывания в Зарытом ему посылали обеды и ужины с виллы, которые он принимал, он решительно отказался от свидания с Атаназием и с женой. По всей видимости, под влиянием «творчества»он делался все чуднее и чуднее. Напрасно Геля уговаривала Атаназия уехать. Он постоянно твердил, что до завтра не доживет, но как-то «доживал» и наконец на десятый день он почувствовал себя как будто несколько лучше. Картина красот природы больше не причиняла ему той жгучей боли от одного только сознания, что убитая им Зося не видит того же самого, что и он. О неродившемся сыне своем цвета свежей печени (?) он уже почти не думал. Постепенно он начинал находить отдохновение в рассматривании каких-то «сережек» на иве на фоне неба или скал с обнаженными вершинами, светящимися на западе темно-буро-малиновой краснотой. Иногда ночью он засыпал. Но зато он впал почти что в абулию: его воля ослабла до такой степени, что его надо было кормить и одевать, чем и занимался «батлер» Чвирек. И был он (Атаназий, а не Чвирек) столь прекрасен в этой своей муке, что Геля стала понемногу терять терпение. Ее переменчивая бурная натура в конце концов взбунтовалась против подчинения «таким вещам».