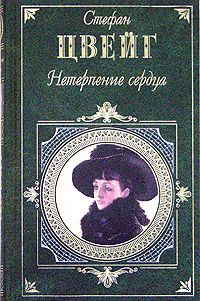Страшное зрелище! В рамках дверей появляется Эдит, обессилевшая от напряжения. Левой рукой она цепляется за дверной косяк, в правой зажала оба костыля. Позади — растерянное лицо Илоны, которая пытается то ли помочь ей, то ли удержать ее. Но глаза Эдит сверкают гневом и нетерпением.
— Оставь меня! Слышишь! Кому говорят! — кричит Она на докучливую помощницу. — Мне никто не нужен. Сама справлюсь.
И тут, прежде чем Кекешфальва и лакей успевают опомниться, происходит невероятное. Больная девушка закусывает от чудовищного напряжения губы и, устремив на меня горящие, широко раскрытые глаза, отталкивается, словно пловец от берега, от дверного косяка, который был ее единственной опорой, — отталкивается, чтобы свободно, без костылей, идти ко мне. В момент толчка Эдит покачнулась, словно падая в пустоту комнаты, но тут же взметнула вверх обе руки, левую, свободную, и правую, в которой она держит костыли, чтобы обрести утраченное равновесие. Потом еще сильнее закусывает губу, выбрасывает вперед одну ногу, подтаскивает к ней другую. Эти судорожные движения вправо и влево напоминают подергивание марионетки. И все же она идет! Идет! Она шла, устремив на меня широко раскрытые глаза, шла, словно невидимая нить подтягивала ее, шла с искаженным лицом и закушенной губой. Она шла, раскачиваясь, словно лодка в бурю, но все-таки шла, впервые шла, без костылей, без посторонней помощи — усилие воли каким-то чудом вдохнуло жизнь в ее мертвые ноги. Ни один врач так и не сумел мне потом объяснить, как смогла скованная параличом девушка один-единственный раз вырвать свои бессильные ноги из мертвого оцепенения, а я не берусь описать этого, потому что все мы, словно завороженные, глядели в ее горящие глаза; даже Илона забыла, что надо охранять Эдит, и не пошла за ней. Словно душевная буря пронесла Эдит всего несколько шагов, она, собственно, и не шла даже, а летела над землей, ощупью, неуверенно, как летит птица с подрезанными крыльями. Одна только воля — демон нашего сердца — гнала ее все дальше и дальше. Вот она уже совсем рядом, вот в предчувствии близкой победы она страстно простирает ко мне руки, помогавшие ей до сих пор сохранять равновесие; напряжение, искажающее ее лицо, готово смениться неудержимой улыбкой счастья. Она совершила, она совершила чудо, осталось всего два шага… нет, всего один, последний шаг… вот я уже чувствую дыхание ее улыбающегося рта… И тут происходит ужасное! Поспешив протянуть ко мне руки, она делает слишком резкое движение и теряет равновесие. Словно подкошенные, мгновенно сгибаются ее колени. С грохотом падает она к моим ногам, костыли гремят по паркету. И тут я в ужасе невольно отшатываюсь, вместо того чтобы броситься к ней на помощь.
Почти одновременно рядом с нею оказываются Кекешфальва, Илона и Йозеф. Они поднимают стонущую Эдит и уносят ее, а я все еще не смею поднять глаз. Я только слышу приглушенное всхлипывание — злые слезы бессильного гнева, слышу шаркающие шаги, уносящие свою ношу. В одну-единственную секунду развеялся туман восторга, целый вечер застилавший мне взор. И при мгновенной вспышке прозрения я с ужасающей ясностью понял все: никогда, никогда несчастная не исцелится до конца. Чудо, которого все ждали от меня, не свершилось. Я больше не был богом, я снова стал жалким, маленьким человечком, чья слабость оказалась страшней подлости, чье сострадание оказалось разрушительной силой. С ужасающей ясностью я сознавал в глубине души свой долг: сейчас или никогда ты должен доказать ей свою верность, сейчас или никогда можешь ты ей помочь, броситься следом за остальными, сесть возле ее постели, успокоить ее, солгать ей, что она великолепно ходит и что она обязательно выздоровеет. Но у меня уже не было сил на такой отчаянный обман. Страх охватил меня, жуткий страх очутиться перед ее глазами, полными то исступленной мольбы, то безудержного желания, страх перед нетерпением этого мятежного сердца, страх перед чужим несчастьем, справиться с которым я был бессилен. Я схватил саблю и фуражку. В третий и последний раз я, как преступник, бежал из этого дома.
Воздуху, скорее воздуху! Я задыхаюсь. То ли ночная духота виновата, то ли вино — я много выпил. Рубашка мерзко липнет к телу, я расстегиваю воротник, хочется сбросить шинель, так давит она на плечи. Воздуху, глоток воздуху! Кажется, будто кровь сейчас выступит изо всех пор, — она страшно горяча, она переполняет меня всего, а в ушах неумолчный шум — тук-тук, ток-ток. Страшный ли это стук ее костылей, или просто стучит в висках? И почему я так бегу? Что случилось? Надо разобраться… Да что, собственно говоря, случилось? Спокойно, спокойно, не слушать никаких тук-тук. Итак, начнем по порядку: я обручен… Нет, меня обручили… я сам не хотел, мне это никогда не приходило в голову… и вот теперь я обручен, теперь я связан… хотя нет, не так… я ведь сказал старику: только если она выздоровеет… но она никогда не выздоровеет. А мое обещание считается действительным… да нет, оно вообще не считается! Ничего не случилось, абсолютно ничего. Но зачем же я поцеловал ее… да еще в губы?.. Я ведь не хотел… Все это сострадание, проклятое сострадание! Сколько раз они ловили меня на эту удочку… и вот я попался. Помолвлен по всем правилам, при двух свидетелях: отец был, и та, другая, и потом еще лакей… А я не хочу, не хочу, не хочу!.. Как же быть?.. Спокойно, только спокойно!.. Опять зловещее тук… тук… невыносимое тук-тук. Теперь я вечно буду слышать этот звук, и вечно она будет гнаться за мной на своих костылях… Свершилось, свершилось непоправимое! Я обманул их, они обманули меня, я обручен, меня обручили…
Но что это? Почему так расшумелись деревья? Что делается со звездами? Почему у меня так рябит в глазах? Должно быть, у меня просто глаза не в порядке. А как сжимает виски! Ох, эта духота! Хоть бы охладить чем-нибудь лоб, тогда можно будет соображать. Или выпить чего-нибудь, чтобы промочить горло и смыть всю горечь… Здесь, кажется, есть где-то колодец, я ведь часто проезжаю мимо. Хотя нет, колодец давно уже остался позади. Я ведь бежал, как сумасшедший, вот почему у меня таи ужасно стучит в висках, стучит и стучит! Хоть бы чего-нибудь выпить, тогда я, может, приду в себя. Наконец-то там, где начинаются первые низкие домишки, из-за полуспущенной шторы мигнула лампа. Верно, верно, теперь я вспоминаю: это маленький пригородный кабачок, куда заходят по утрам извозчики, чтобы согреться глотком вина. Спрошу стакан воды или чего-нибудь острого, горького, чтобы избавиться от противного ощущения слизи, залепившей мне горло. Только бы выпить чего-нибудь, все равно чего! С нетерпением умирающего от жажды я, не раздумывая, толкнул дверь.
Запах плохого табака из полутемного подвала бьет в нос. В глубине стойка, на ней бутыль с дешевой водкой, у окна стол, за ним рабочие играют в карты. Облокотившись на стойку, спиной ко мне, стоит улан и заигрывает с хозяйкой. Почувствовав сквозняк, он оглядывается и от страха разевает рот, потом проворно вытягивается по стойке «смирно» и щелкает каблуками. Чего он так испугался? Ах да, должно быть, он принял меня за патруль, а ему, вероятно, уже давно пора быть в казарме. Хозяйка тоже с беспокойством глядит на меня, рабочие прекращают игру. Что их так поразило? И тут, с большим опозданием, я догадываюсь: да это просто один из кабачков, где бывают только нижние чины. Офицерам сюда ходить не полагается. Я машинально поворачиваю обратно.
Но ко мне уже подлетает хозяйка и почтительно спрашивает, чего мне угодно. Я чувствую, что должен как-то объяснить, почему я сюда попал.
— Мне что-то нездоровится, — говорю я. — Нельзя ли получить содовой и стакан сливовицы?
— Пожалуйста, пожалуйста.
Хозяйка исчезает. Я собирался осушить оба стакана прямо у стойки, но тут керосиновая лампа посреди комнаты начинает приплясывать, бутылки на полках беззвучно подпрыгивают а дощатый пол уходит из-под ног и раскачивается так, что я едва удерживаюсь на ногах. «Надо присесть», — говорю я себе и, собрав последние силы, добираюсь до пустого столика и падаю на стул; мне приносят содовую, и я залпом выпиваю ее. Как холодно! Так приятно на миг избавиться от тошнотворного вкуса во рту. Теперь поскорей глотнуть крепкой водки и встать. Но нет, не выходит, ноги словно приросли к полу, а в голове стоит глухой гул. Заказываю еще стакан сливовицы. Потом закурить и скорее прочь!
Я зажигаю сигарету. Посидеть минутку, уронив голову на руки, посидеть и обдумать, обдумать все по порядку. Итак, я обручен… меня обручили… но это действительно только в том случае… Никаких уверток, это действительно во всех случаях, во всех, во всех… Я поцеловал ее в губы, по доброй воле поцеловал. Лишь для того, чтобы ее успокоить; и потом, я знал, что ей никогда не выздороветь… вон как она рухнула… На таких не женятся, она ведь не настоящая женщина, она ведь… все равно, они меня не выпустят, нет, мне уже не видать свободы… Старик — джинн, джинн с грустным лицом порядочного человека и золотыми очками, — вот кто цепляется за меня… и его не стряхнешь… он повис на мне, ухватился за мое сострадание, за мое проклятое сострадание… Завтра они уже растрезвонят про это на весь город… и в газете напишут… И тогда уже не будет пути назад… Может, лучше прямо сейчас известить домашних, мать, отца, чтобы они узнали обо всем не от чужих людей или — еще того хуже — из газет. Объяснить, почему и при каких обстоятельствах состоялась помолвка, и что все откладывается на неопределенный срок, и что я совсем не собирался и только из сострадания впутался в эту историю… Сострадание, проклятое сострадание! И в полку тоже ничего не поймут, никто из товарищей не поймет. Как это сказал Штейнхюбель про Балинкаи? «Уж если продаваться, так подороже…» Господи, чего они только не наговорят… а я ведь и сам толком не знаю, как я мог обручиться с этим… с этим искалеченным существом. А когда проведает тетя Дэзи? От нее легко не отделаешься, она шутить не любит. Ей не заморочишь голову россказнями о титулах и замках. Она пороется в дворянском календаре и через день-другой будет знать совершенно точно, что Кекешфальву раньше звали Леммелем Каницем и это Эдит наполовину еврейка, — а для тети нет ничего страшней, чем породниться с евреями. Мать еще можно как-то уговорить, ее соблазнят деньги… миллионов шесть-семь, так он, кажется, сказал. А впрочем, плевать мне на его деньги, не собираюсь же я, в самом деле, жениться на ней, пусть даже за все сокровища мира. Я ведь сказал: если она выздоровеет, только тогда… но как им втолкуешь… у нас в полку и без того недолюбливают Кекешфальву, а в таких делах они чертовски щепетильны… Ну как же, честь полка, я ведь знаю. Они и Балинкаи до сих пор не простили. Смеялись над ним: он, мол, продался этой старой голландской корове… А уж когда они увидят костыли! Нет, лучше совсем ничего не писать домой… незачем им знать заранее. Никому ничего не надо знать, не желаю я, чтобы все казино издевалось надо мной! Но как улизнуть от них? Может, стоит поехать в Голландию, к Балинкаи? Ну да, я ведь еще не отказался от его предложения, в любую минуту могу выехать в Роттердам, и Кондор пусть расхлебывает всю кашу, он ее заварил, а не я… Пусть сам придумает, как поправить дело, раз во всем виноват… Лучше всего сразу поехать к нему и все выложить… Сказать, что я просто не могу… Как она ужасно рухнула, словно мешок с отрубями!.. На таких не женятся… Я сейчас ему скажу, что с меня довольно… Вот возьму и поеду к Кондору не откладывая… Извозчик! Эй, извозчик! Куда? Флориангассе… Да, какой у него номер дома? Флориангассе, девяносто семь… и гони побыстрей, побыстрей… дам хорошо на чай… ну, погоняй же… Вот мы и приехали, я узнаю невзрачный домишко, в котором он живет, узнаю и мерзкую, грязную лестницу. Хорошо, что лестница такая крутая… Сюда она не полезет со своими костылями, здесь я, по крайней мере, не услышу ток-ток, тук-тук… Но что такое?.. У двери стоит все та же неопрятная служанка. Или она всегда тут торчит, эта неряха?