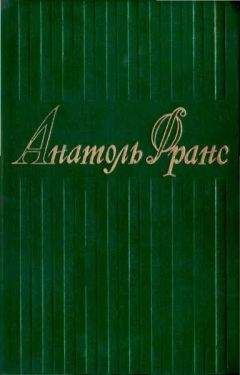Состояние моей старой няни удивляло меня, но не тревожило, так как я не понимал, что оно может ухудшиться. Но однажды вечером я услыхал, как мои родители тихо разговаривали между собой.
— Друг мой, Мелани с каждым днем дряхлеет.
— Да, это лампада, в которой больше нет масла.
— Безопасно ли отпускать с ней Пьеро?
— Ах, дорогая Антуанетта, она слишком любит ребенка и найдет в своем старом сердце силу и уменье уберечь его.
Эти слова открыли мне глаза. Я понял и заплакал. Мысль, что жизнь течет и убегает, как вода, впервые проникла в мой разум.
После этого я с любовью цеплялся за узловатые, за натруженные руки моей няни Мелани, я целовал ее, но она была уже потеряна для меня.
В течение лета, чудесного лета, она стала бодрее, к ней вернулась память. Она снова сияла у своей плиты и своих кастрюль, а я снова начал ее дразнить. Как и прежде, она ежедневно ходила на базар и возвращалась оттуда, не слишком запыхавшись, не слишком ощущая тяжесть своей корзины. Но когда наступила дождливая пора, она стала жаловаться на головокружения. «Я будто пьяная», — говорила она. Однажды утром, после того как она ушла за покупками, как обычно, кто-то позвонил у наших дверей. Это был г-н Менаж. Он нашел Мелани лежащей без чувств у подножия лестницы и на руках принес ее домой. Вскоре она пришла в сознание, и отец сказал, что на этот раз она спасена. Я разглядывал г-на Менажа с любопытством и с большим вниманием, чем это полагалось бы в моем возрасте, ибо в науке познания мира я был более силен, чем в науке поведения. Г-н Менаж действительно носил раздвоенную рыжую бороду и ходил в мягкой войлочной шляпе а ля Рубенс и в панталонах по-гусарски, но он был совершенно не похож на человека, который пьет огненный пунш из черепа мертвеца. Уложив Мелани на диван, он поддерживал ей голову и был воплощением милосердного самаритянина[248]. Он казался умным и добрым. Его красивые, немного усталые глаза, печальные и нежные, дружелюбно смотрели на окружающее, и мне показалось, что они с улыбкой задержались на прекрасных волосах матушки. Ко мне он отнесся со всей доброжелательностью, какую мог ему внушить некрасивый ребенок, и посоветовал моим родителям не мешать мне свободно развиваться в соответствии с законами природы — источником всяческой энергии.
Все горячо благодарили г-на Менажа. Матушка была тронута тем, что он не забыл принести и корзинку. Только сама Мелани не выразила художнику никакой признательности. Когда-то он серьезно обидел ее, нарисовав на дверях ее каморки Амура, просящего гостеприимства, и она не могла простить ему эту дерзость. Вот как сильно развито у порядочной женщины чувство чести.
Как и предсказал доктор, наша старая няня оправилась, но было очевидно, что ей пора уходить на покой.
От меня все скрывали. Шушукались, подавляли вздохи, вытирали слезы, паковали вещи. Говорили обиняками о племяннице Мелани, которая вышла замуж за земледельца по имени Денизо и вместе с ним хозяйничала на ферме в Жуи-ан-Жоза.
Однажды утром эта племянница появилась у нас в доме, смиренная и страшная. Это была высокая, черная, сухопарая женщина с огромными зубами, которых зато было у нее очень немного. Она пришла за своей теткой Мелани, чтобы увезти ее в Жуи, под свой кров. Я почувствовал, что всякое сопротивление бесполезно, и заплакал. Мы поцеловались. Чтобы утешить меня, матушка пообещала, что в скором времени свезет меня в Жуи. Моя старая Мелани была убита горем, но, глядя на нее, я испытал странное и неуловимое ощущение. Я увидел, что, отвязав свой фартук, она разорвала узы, привязывавшие ее к городской жизни, и что отныне это другая женщина, с которой у меня нет уже ничего общего, — что это крестьянка. Я понял, что потерял мою няню Мелани и потерял безвозвратно.
Мы проводили ее до тележки, на которую она уселась рядом с племянницей. Кнут слегка коснулся ушей кобылы. Мелани уехала. Я увидел, как удаляется ее белый, круглый, похожий на сыр деревенский чепчик. То было мое первое горе. Я ощущаю его до сих пор.
Теряя Мелани, я терял больше, нежели думал: я терял прелесть и радость моего раннего детства. Матушка, с уважением относившаяся к Мелани, была достаточно великодушна, чтобы не ревновать к той любви, которую я отдавал моей старой няне, и если эта любовь была не так сильна и не так возвышенна, как моя любовь к матушке, то, пожалуй, она была более нежной и уж конечно более задушевной.
Сердце у Мелани было так же бесхитростно, как у меня, и благодаря ограниченности наших понятий мы были очень близки друг другу. Мелани было уже много лет, когда я родился, и она не была веселой. Она и не могла быть веселой, потому что прожила тяжелую жизнь, но ее сияющее простодушие заменяло ей и молодость и веселость.
В равной и, может быть, даже в большей степени, чем сама матушка, Мелани сформировала склад моей речи. И мне не приходится жалеть об этом — при всей своей невежественности она говорила хорошо.
Она говорила хорошо, поскольку ее слова убеждали и утешали. Когда, упав на песок, я обдирал себе колени или кончик носа, она произносила слова, от которых делалось легче. Если мне случалось немного приврать ей, проявить в ее присутствии эгоистическое чувство или вспылить, она произносила слова, которые исправляют, укрепляют, умиротворяют сердце. Я обязан ей основой моих нравственных убеждений, и то, что добавилось к ним впоследствии, менее прочно, чем эта старая основа.
Из уст моей старой служанки я перенял хорошую французскую речь. Мелани говорила языком простонародья, по-крестьянски. Она говорила: «каструля», «одёжа», «колидор»[249]. За этим исключением, она могла бы давать уроки правильной речи многим профессорам и академикам. В ее устах возрождалась плавная и непринужденная речь наших прадедов. Она не умела читать и произносила слова так, как их произносили во времена ее детства, а люди, от которых она слышала их, были людьми необразованными, черпавшими язык из его природных истоков. Поэтому Мелани говорила естественно и правильно. Она без труда находила выражения красочные и сочные, как плоды наших садов. Она знала множество забавных поговорок, мудрых пословиц и народных, крестьянских образных сравнений.
— Друг мой, — сказала матушка доктору Нозьеру, — к нам пришла та молоденькая служанка, которую рекомендует госпожа Комон. Она из Турени. Мне бы хотелось, чтобы ты взглянул на нее. До сих пор она служила только у одной пожилой барышни в предместье Тура. Говорят, она честная.
Нам давно пора было, для пользы нашего хозяйства, завести наконец честную служанку. С тех пор как больше года назад уехала наша старая Мелани, у нас перебывала дюжина служанок, причем лучшие из них бросали место, как только убеждались, что здесь нечем поживиться. У нас была Сикоракса[250], у которой росла борода и которая готовила нам какие-то страшные, колдовские снадобья. Была восемнадцатилетняя девушка, очень хорошенькая, ничего не понимавшая в хозяйстве; матушка начала было ее обучать, но через три дня девица исчезла, прихватив с собой полдюжины серебряных ложек и вилок. Была особа, сбежавшая из сумасшедшего дома; она называла себя дочерью Луи-Филиппа и носила ожерелье из графинных пробок, но мой дорогой папа, будучи врачом, последний заметил, что она не в своем уме. У нас была Сова, которая весь день дремала на ходу, а по ночам, когда все думали, что она спит у себя в мансарде, стояла за стойкой своего кабачка — в глубине одного двора на улице Муфтар — и поила разный сброд нашим вином; впрочем, это была искусная кулинарка и повариха, если верить моему крестному, знавшему толк в таких вещах. Последней была Гортензия Персепье, ожидавшая, подобно Пенелопе, своего супруга, уехавшего с Кабэ в Икарию[251], и, как Пенелопа, привлекавшая большое количество женихов, которые приходили поесть у нас на кухне.
Тогдашние хозяева так же роптали на свою судьбу, как и нынешние: «Как трудно стало нынче с прислугой. Не то что прежде. Вот когда были преданные слуги. Все переменилось!» Некоторые винили в этом Революцию, разбудившую народные аппетиты. Но разве когда-нибудь они спали? Достоверно одно — что хорошие господа и хорошие слуги во все времена были редки. Эпиктеты и Марки Аврелии[252] встречаются не каждый день.
Моя дорогая матушка ждала эту новую служанку не то, чтобы со слепым доверием, — оно было уже невозможно, — но все-таки с каким-то благоприятным предчувствием, которого она не скрывала. Чем оно объяснялось? Да тем, что девушка, как говорили, была скромна, воспитывалась в честной крестьянской семье и кое-чему научилась, служа у одной старой барышни из провинциальной семьи военных и судейских. А кроме того, матушка знала от аббата Муанье, своего духовника, что отчаянье — большой грех.