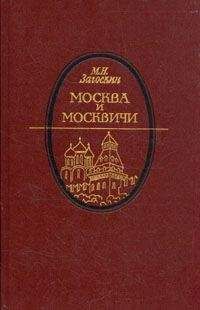Сурский. Из Питера.
Андрей Тихонович. Куда?
Сурский. В Москву.
Андрей Тихонович. Проездом?
Сурский. Нет, на житье.
Андрей Тихонович. Что ты говоришь?… Ах, господи, вот досада-то, подумаешь! Как нарочно; ты в Москву, а я из Москвы!
Сурский. Да ты куда едешь? В Петербург?
Андрей Тихонович. Ох, нет, мой друг!.. За границу.
Сурский. Вот что!.. Да что это, братец, иль тебе в карете-то места нет?
Андрей Тихонович. Как не быть.
Сурский. Так зачем же ты на козлах сидел?
Андрей Тихонович. Да вот, как видишь, трубочку покуриваю.
Сурский. А, видно, в карете-то…
Андрей Тихонович. Не любят!
Сурский. Ага, любезный. Вот то-то!.. Жениться захотел.
Марья Алексеевна (выглянув в окно). Эй, голубчик!.. Ямщик!.. Да скоро ли ты кончишь?
Ямщик. Мигом, матушка, мигом!
Сурский (вполголоса). Андрей Тихонович, это твоя барыня?
Андрей Тихонович. Д-да, мой друг!
Сурский. Ну, брат, поздравляю!.. Ты человек со вкусом!.. Да жена-то у тебя красавица!.. Любо посмотреть!.. Вот уж подлинно кровь с молоком… Так ты едешь в чужие края, чтоб потешить молодую жену?…
Андрей Тихонович. Ох, брат!.. Чего мне будет стоить эта поездка!.. Ведь мы едем на два года.
Сурский. На два года? Да, любезный, это станет тебе в копейку.
Андрей Тихонович. К тому ж и дела-то мои не больно хороши: лучшая деревня сгорела.
Сурский. Так что ж тебе за охота?…
Андрей Тихонович. А что будешь делать!.. Моя Марья Алексеевна…
Сурский (прерывая). Отдала приказ, так ты ослушаться не смеешь?… Эге, любезный!.. Да ты, я вижу, вовсе под каблучком у твоей законной половины!..
Андрей Тихонович (обидясъ). Нет, Степан Иванович, ошибаешься, любезный! Я не такой муж, чтоб стал перед моей женой по струнке ходить; я на ней женился, а не в крепость пошел.
Сурский. Однако ж все-таки в угоду молодой жене едешь за границу.
Андрей Тихонович. В какую угоду!.. Поедешь, брат, и за тридесять земель, когда дело идет о здоровье.
Сурский. О здоровье? Ну, это другая речь… Да чем же ты болен, Андрей Тихонович?
Андрей Тихонович. Не я!
Сурский. А кто ж? Ведь, кажется, у тебя детей нет?
Андрей Тихонович. Жена больна, мой друг.
Сурский. Жена?… Вот эта дородная барыня, которую я сейчас видел?
Андрей Тихонович. Да.
Сурский. Ах, батюшки!.. Ну кто бы мог подумать?…
Андрей Тихонович. Послушай, мой друг: ты теперь едешь на житье в Москву, — сделай милость: я напишу из Петербурга к моему приказчику, чтоб он во всем к тебе относился… Я было просил об этом кой-кого из моих московских приятелей, да все люди ненадежные.
Сурский. Очень рад, мой друг!
Андрей Тихонович. Я и прежде был должен в Опекунский совет, а теперь еще заложил деревню, так уж сделай милость, потрудись из моих доходов вносить проценты и, если будущей зимой встретится что-нибудь неожиданное, напиши ко мне в Рим на имя банкира… эх, забыл!.. Ну, да все равно: адресуй просто в Рим, с удержанием на почте.
Сурский (заглядывая в карету). Хорошо, мой друг, хорошо!
Андрей Тихонович. Ты где будешь жить в Москве?
Сурский. В доме моей тетки, на Никитской.
Андрей Тихонович. А, знаю, знаю!
Сурский. Так твоя жена больна?
Андрей Тихонович. И очень нехорошо, мой друг… Ее может только спасти теплый климат.
Сурский. Да чем же она нездорова?
Андрей Тихонович. Мне доктор объявил решительно, что у нее начинается чахотка.
Сурский. Что ты, Андрей Тихонович?… Перекрестись!
Андрей Тихонович. И я также, братец, этому не верил, да Фома Фомич мне доказал, как дважды два четыре, что у ней все признаки этой ужасной болезни, — только она еще не развилась, и для нашей братьи, темных людей, вовсе не заметна, но что внутренний организм решительно поражен.
Марья Алексеевна (выглянув в окно кареты). Андрей Тихонович, ну, что ж ты не садишься? Тебя дожидаются.
Андрей Тихонович. Прощай, Степан Иванович! Теперь у меня на душе будет полегче: есть кому позаботиться о моих делах. До свидания, мой друг.
Сурский (который во все это время смотрит внимательно на Марью Алексеевну). Постой, постой!.. Одно только слово. Как зовут вашего доктора?
Андрей Тихонович. Фома Фомич Дупельшнеп. А на что тебе?
Сурский. Как на что, любезный: я теперь московский житель и могу попасть к нему на руки…
Андрей Тихонович. Так что ж?
Сурский. А вот что, мой друг: если он мне скажет, что у меня чахотка, так я вместо козлиного молока буду пить шампанское.
Андрей Тихонович. Ты все, брат, такой же балагур, как и прежде…
Марья Алексеевна. Андрей Тихонович, да что ж вы не садитесь?
Андрей Тихонович (влезая на козлы). Сейчас, сейчас!
Ямщик (расправив вожжи). Эй вы, соколики!
Сурский (садясь в коляску). Прощай, Андрей Тихонович!.. Пошел!
Спустя два года
Тверская застава. Шагах в двухстах от нее, по одному из бульваров, между которых проложено Петербургское шоссе, идут двое мужчин; один из них Степан Иванович Сурский, другой — приятель его, Федор Никитич Климов. По шоссе идут шагом коляска и парная пролетка.
Сурский (продолжая разговор). Да, Федор Никитич, как я ни хлопотал, а успеха никакого не было. Я сделал все, что от меня зависело; вчера был на последней переторжке; сам я надавать не мог, ты знаешь, я человек небогатый, но уговорил Сундукова идти до двухсот рублей серебром за душу.
Климов. Ну, что ж, это цена недурная.
Сурский. Именье-то богатое! Не продавайся оно с публичного торга, так охотно бы триста целковых за душу дали. Одна деревня в двух верстах от Рыбинска, другая — на Оке; строевой лес, поемные луга… Эх, жаль мне бедного Андрея Тихоновича!.. Если б он был сам налицо, так авось бы как-нибудь извернулся… Лес мог бы продать тысяч на сто — охотники были; а без него что будешь делать?
Климов. Да где он теперь?
Сурский. Бог знает! Жена беспрестанно таскает его из одного места в другое. В конце прошлой зимы я написал к нему в Рим, что его дела в весьма худом положении. В одной деревне крестьяне, у которых все сгорело, вовсе обнищали, не пашут ни своей, ни барской земли, шатаются по большим дорогам да милостыню просят; в другой — оброчные совсем от рук отбились, не платят, да и только! В третьей — хлеб не уродился; доходов никаких нет, а между тем надобно вносить проценты в Опекунский совет. На это письмо ответа не было, да и быть не могло, потому что я через неделю получил от него письмо из Парижа. Спустя несколько месяцев я отправил к нему письмо в Париж и советовал как можно скорее воротиться в Россию, потому что чрез шесть месяцев обе его оброчные деревни за просрочку в Опекунский совет будут продаваться с публичного торга и что он может остаться при одной орловской деревне, которая после пожара гроша не стоит. Жду-пожду — бряк от него письмо из Венеции, жалуется, что я к нему не пишу, что Венеция — город прескучный: земли вовсе нет, каменные пустые дома, вместо улиц каналы с вонючей водой, а вместо экипажей черные лодки, которые, дескать, называются здесь гондолами. Я написал к нему в Венецию, послал на почту, а мне несут с почты от него письмо из Неаполя. Вот и третье мое письмо в воду кануло. «Мы с женою, — пишет он, — другой месяц живем на берегу моря в загородном доме, которые называют здесь виллами. Жара смертная… денег выходит пропасть. Впрочем, благодаря бога жене лучше, грудью перестала жаловаться и очень раздобрела; только одно меня беспокоит: у ней сделалась одышка; я думал сначала, что это просто от толстоты, по Марья Алексеевна говорит, что здешние доктора приписывают это слабости легких и что ей должно еще непременно около года прожить в теплом климате». Потом Андрей Тихонович рассказывает мне, как жена таскала его на Везувий; что ее несли на носилках, а он сначала ехал на осле, а там шел пешком и так умаялся, что, приехавши домой, слег в постель да три недели был болен. Он оканчивает свое письмо тем, что просит переслать к нему в Неаполь все, что получено с его деревень в течение осьмнадцати месяцев. Разумеется, я отвечал ему, то есть повторил все то, что писал в письме моем, адресованном в Венецию. Не знаю, получил ли его Андрей Тихонович, только с тех пор я не имею о нем никакого известия.
Климов. Бедный старик! И что это пошло на наших московских барынь, словно поветрие какое: все так и рвутся за границу. Вот у меня есть родственник — Сергей Александрович Сусликов, человек небогатый, всего тысяч десять в год доходу, однако ж жил кое-как в Москве. Жена уговорила его съездить за границу: съездили, да вот теперь третий год и живут в своей калужской деревне: справиться не могут. Видно, что над нами сбывается русская пословица: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Люди богатые, образованные стали ездить за границу, вот и все наши полуграмотные мелкопоместные дворянчики туда же поднялись!.. Говорят, что известная русская путешественница госпожа Курдюкова — совершенно невероподобное создание, карикатура!.. Неправда! Я на свою долю знаю одну и даже двух Курдюковых, которые ездили а летранже, срамились, убили последнее свое именьишко и, что всего хуже, назывались за границею русскими барынями.