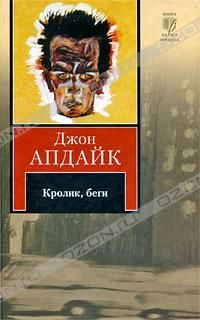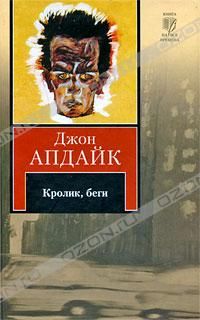Сам типичный отец и семьянин, шеф довольно долго сидит, улыбаясь и не отвечая. Кролик понимает, что он не случайно разбил себе нос, а ему разбили его где-то в закоулках его биографии. Белоснежные мягкие волосы подстрижены ровно и кажутся пуховкой с розовым окаймлением над ушами, где впивается полицейская фуражка. Улыбка его ширится, создавая складки на щеках.
— Строго говоря, — произносит он, — это не моя смена. Я выступаю вместо моего уважаемого коллеги, шерифа поселка Фэрнейс, который закончил смену и отправился спать. Не для передачи могу сказать, что у нас достаточно народу сидит в тюрьмах и без таких солидных граждан, как вы. Просто позже у нас появятся к вам еще вопросы. — Он закрывает блокнот и включает радиотелефон. — Всем машинам бруэрской полиции смотреть в оба в поисках мужчины-негра, рост приблизительно пять и шесть, вес приблизительно один двадцать пять, кожа средне-темная, прическа «афро», прозвище Ушлый, повторяю по буквам: Утка, школа, лев… — Он даже не поворачивает головы, когда Кролик открывает дверь машины и выходит из нее.
Итак, во второй раз в жизни капкан закона не захлопывается за Кроликом. Он-то знает, что он преступник, но его ни разу не поймали. Все тело болит — боль оседает, как сажа. Пожарные поливают водой дымящиеся развалины, нагромождение оборудования на Виста-креснт рассасывается. Обесчещенный дом окружен желтыми фонарями на треножниках, предупреждающими людей о том, что туда нельзя заходить. Кролик идет по лужайке, совсем недавно еще покрытой травой, а сейчас вытоптанной, со следами ног, и озирает причиненный ущерб.
Хуже всего пострадал дом сзади — осветительные приборы в ванной при спальне болтаются, свисая с покореженных трубок. Стены, возле которой стояло изголовье кровати, — нет. Клочья ночного синего неба просвечивают сквозь крышу. Кролик заглядывает в окна нижнего этажа и при вспышках желтого света видит нечто похожее на аттракцион ужасов: диван и два кресла, словно солью, посыпанные опавшей штукатуркой, стоят друг против друга, а между ними скамья сапожника. Лампа на основании из дерева-плавника по-прежнему стоит прямо. На полках, отделяющих гостиную от закутка для завтрака, — книжки Ушлого, намокшие и свалявшиеся. Оттуда, где была кухня, Гарри видит сквозь гараж нечто похожее на обугленную букву N. Небо светлеет. Чирикают, готовясь к пению, птицы — птицы в Пенн-Вилласе, где же они нашли приют? Тут нет достаточно больших для них деревьев. Становится холодно, холоднее, чем в середине ночи, когда пылал огонь. Небо на востоке, в направлении Бруэра, начинает бледнеть. В предрассветной серости вырисовываются очертания горы Джадж. Туча птиц пересекает пригород, направляясь на юг, к Уайзер-стрит, к высокому зданию окружной психиатрической больницы и дальше. На костях Гарри оседает сажа. Веки у него стали шершавыми, как сухие стручки. От усталости у него возникают галлюцинации — так за несколько секунд до сна в нашем представлении оживают образы. Пробуждающееся небо над горой Джадж — это Бекки, умершая малышка, а мрачное небо на западе такого цвета, как в бурю, но усыпанное звездами, — это Нельсон, его живой сын. А он сам — взрослый мужчина посредине.
Кролик подходит к развороченной входной двери, смахивает осколки стекла и садится на каменные ступени. Они теплые, точно он сидит у очага. Никто из соседей не вышел поговорить с ним, посиять на фоне его беды, — он обводит взглядом окрест себя и видит неприветливую картину, обнажившуюся в утреннем свете, пастельного цвета гонт на крышах домов влажно поблескивает, повторяя рисунок перекрытий, бассейны и качели на задних дворах побелели от изморози вместе с травой. В посветлевшем небе все еще криво висит месяц, словно игрушка, забытая на полу. Пожилой мужчина в шуршащем зеленом дождевике, оставленный сторожем, подходит к нему и спрашивает:
— Это ваш дом, а?
— Да, мой.
— А у вас есть куда пойти?
— Наверно.
— Труп — это кто-то из близких?
— Не совсем.
— Уже хорошо. Приободритесь же, молодой человек. Страховка большую часть этого покроет.
— А у меня есть страховка?
— Вы закладывали дом?
Кролик кивает, вспомнив про маленькую банковскую книжечку со скользкой бумагой — она наверняка сгорела.
— Тогда, значит, у вас есть страховка. Уж будьте уверены, эти чертовы банки о себе заботятся, этих евреев никогда врасплох не застигнешь.
Присутствие этого человека начинает казаться странным. Уже много месяцев ничто не казалось ему таким странным, как присутствие этого человека. Кролик спрашивает его:
— Сколько времени вы тут пробудете?
— Подежурю до восьми.
— Зачем?
— Такое правило при пожарах. Чтобы предотвратить грабежи. — Оба задумчиво оглядывают спящие дома и холодные лужайки Пенн-Вилласа. В этот момент вдалеке раздается звон будильника в одном из домов и наверху зажигается свет, неяркий, дежурный. Да, нынче везде грабят. Старик спрашивает Кролика: — Ничего нет у вас там ценного, что вы хотели бы забрать? — Кролик даже не шелохнулся. — Пошли бы вы поспали немного, молодой человек.
— А вы? — спрашивает Кролик.
— Людям моего возраста не требуется много сна. Заснуть придется надолго и довольно скоро. Так или иначе, я люблю эти мирные часы, любил даже мальчишкой. Всегда рано вставал, а отец — он был большим пьяницей и подолгу спал — колотил меня вовсю, если я хоть чуток шумел утром. Вот у меня и вошло в привычку потихоньку убегать из дома к птицам. Так или иначе, двойная оплата за дежурство и вся смена на воздухе. Только не надо все время это указывать в ведомости, чтоб не получилось выше определенного количества часов, а то не получишь социальной страховки. Человека нынче убивают добротой — это такая новая техника.
Кролик встает — все тело болит: боль поднимается от ног к паху, животу, груди — и исчезает. Демон покидает его. Дым, туман поднимаются. Кролик поворачивается к своей входной двери — она разбухла от воды, изрублена топором и противится ему. Старик говорит:
— Я отвечаю за то, чтобы никто не входил в здание. Если с вами что случится, сами будете отвечать.
— Вы же только что сказали мне, чтобы я взял то, что считаю ценным.
— Просто я говорю, что сами будете отвечать. А я отворачиваюсь. Провалитесь сквозь пол, наступите на оголенный провод — не зовите на помощь. Для меня вас там нет. От греха подальше — таково мое правило.
— И мое тоже.
Он наваливается на дверь, и она открывается. Осколки стекла с другой ее стороны оцарапали белыми полукружьями пол коридора. Глаза у Кролика начинают слезиться от дыма и запаха. В доме тепло, и он как бы разговаривает сам с собой: что-то шуршит и трещит слева от Кролика; обугленный настил под бывшим полом оседает, промокший черный бут пускает пузыри. Металлический каркас кровати провалился в кухню. Гостиная справа от Кролика задымлена, но не повреждена. Сквозь едкий дым поблескивают серебристые нити обивки кресла; зеленый экран телевизора ждет, чтобы его включили. Кролик подумал было забрать его — это единственное, что можно было бы продать, но нет, слишком он тяжелый, Кролик может провалиться вместе с ним сквозь пол, да и таких телевизоров теперь миллион. Дженис как-то сказала, что следовало бы сбрасывать на джунгли телевизоры вместо бомб — эффект был бы тот же. Кролик тогда подумал, что это слишком умная для нее мысль, — уже тогда она говорила словами Ставроса.
Ей всегда нравилась эта дурацкая скамья сапожника. Кролик вспоминает, как она в начале их брака опускалась возле нее на колени, полировала ее льняным маслом, отрывистыми быстрыми движениями захватывая всего два-три дюйма, — от этого зрелища у него всегда возникало желание. Он подхватывает скамью под мышку и, обнаружив, что она легкая, вытаскивает из розетки шнур от лампы с деревянным основанием и тоже забирает ее с собой. Остальное пусть делят между собой воры и страховые агенты. Никогда ведь не вытравишь из вещей запах дыма. Как и запах неудач в жизни. Он вспоминает, как протирал «Уиндексом» оконные стекла, и ему кажется, что вся его жизнь состоит из таких вот деталей. Дом отпускает его. Он свободен. Длинные оранжевые полосы падают от солнца со стороны, противоположной той, с которой оно светило, когда они с Нельсоном вошли в дом вечером, давным-давно; полосы света прослаивают низкие чужие дома, когда он идет по Виста-креснт, неся под мышкой скамью сапожника и лампу. «Фьюри» Пегги — единственная машина, которая все еще стоит у обочины, словно лодка, прибитая приливом. Кролик открывает дверцу, двигает вперед сиденье, чтобы поставить сзади скамью, и обнаруживает, что там кто-то есть. Негр. Спит.
— Какого черта! — восклицает Кролик.
Ушлый просыпается и, ничего не видя, ищет на ощупь свои очки на резиновом коврике на полу.
— Чак крошка, — говорит он, поднимая к Кролику два круглых стекла. Прическа «афро» примялась сбоку. Точно подгнивший фрукт. — Один остался, верно?