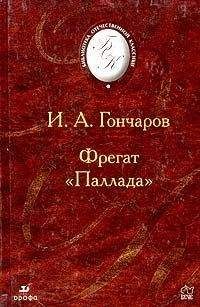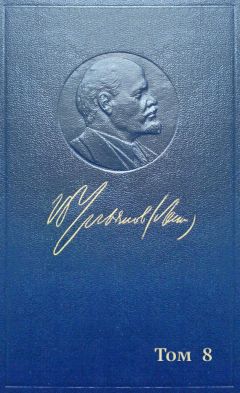"Долго ли так будет?" – говорили мы, лаская рукой шестидесятифунтовые бомбовые орудия. Хоть бы японцы допустили изучить свою страну, узнать ее естественные богатства: ведь в географии и статистике мест с оседлым населением земного шара почти только один пробел и остается – Япония. Странная, занимательная пока своею неизвестностью земля растянулась от 32 до 40 с лишком градусов ‹северной› широты, следовательно с одной стороны южнее Мадеры. В ней господствуют зной и морозы, растут пальма и сосна, персик и клюква. Там есть горы, равные нашим высочайшим горам, горящие пики, и в горах – мы знаем уже – родится лучшая медь в свете, но не знаем еще, нет ли там лучших алмазов, серебра, золота, топазов и, наконец, что дороже золота, лучшего каменного угля, этого самого дорогого минерала XIX столетия.
Мы завидели мыс Номо, обозначающий вход на нагасакский рейд. Все собрались на юте, любуясь на зеленые, ярко обливаемые солнцем берега. Но здесь нас не встретили уже за несколько миль лодки с фруктами, раковинами, обезьянами и попугаями, как на Яве и в Сингапуре, и особенно с предложением перевезти на берег: напротив!
Мы входили немного с стесненным сердцем, по крайней мере я, с тяжелым чувством, с каким входят в тюрьму, хотя бы эта тюрьма была обсажена деревьями.
Но это что несется мимо нас по воде: какая-то маленькая, разукрашенная разноцветными флюгарками шлюпка-игрушка? "Это у них религиозный обряд", – сказал один из нас. "Нет, – перебил другой, – это просто суеверный обычай". – "Гаданье, – заметил третий, – видите, видите, еще такая же плывет? – это гаданье; они пробуют счастья". – "Нет, позвольте, – заговорил кто-то, – у Кемпфера говорится…" – "Просто игрушки: мальчишки пустили", – проворчал сквозь зубы дед. И чуть ли это мнение было не справедливее всех ученых замечаний. Но здесь всякая мелочь казалась знаменательною особенностью.
Вдруг появилась лодка, только уж не игрушка, и в ней трое или четверо японцев, два одетые, а два нагие, светло-красноватого цвета, загорелые, с белой, тоненькой повязкой кругом головы, чтоб волосы не трепались, да такой же повязкой около поясницы – вот и всё. Впрочем, наши еще утром видели японцев.
Я только что проснулся, Фаддеев донес мне, что приезжали голые люди и подали на палке какую-то бумагу. "Что ж это за люди?" – спросил я. "Японец, должно быть", – отвечал он. Японцы остановились саженях в трех от фрегата и что-то говорили нам, но ближе подъехать не решались; они пятились от высунувшихся из полупортиков пушек. Мы махали им руками и платками, чтоб они вошли.
Наконец они решились, и мы толпой окружили их: это первые наши гости в Японии. Они с боязнью озирались вокруг и, положив руки на колени, приседали и кланялись чуть не до земли. Двое были одеты бедно: на них была синяя верхняя кофта, с широкими рукавами, и халат, туго обтянутый вокруг поясницы и ног. Халат держался широким поясом. А еще? еще ничего; ни панталон, ничего…
Обувь состояла из синих коротких чулок, застегнутых вверху пуговкой. Между большим и следующим пальцем шла тесемка, которая прикрепляла к ноге соломенную подошву. Это одинаково, и у богатых, и у бедных.
Голова вся бритая, как и лицо, только с затылка волосы подняты кверху и зачесаны в узенькую, коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой маковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической! За поясом у одного, старшего, заткнуты были две сабли, одна короче другой. Мы попросили показать и нашли превосходные клинки.
Мы повели гостей в капитанскую каюту: там дали им наливки, чаю, конфект. Они еще с лодки всё показывали на нашу фор-брам-стеньгу, на которой развевался кусок белого полотна, с надписью на японском языке "Судно российского государства". Они просили списать ее, по приказанию разумеется, чтоб отвезти в город, начальству.
Через полчаса явились другие, одетые побогаче. Они привезли бумагу, в которой делались обыкновенные предостережения: не съезжать на берег, не обижать японцев и т. п. Им так понравилась наливка, что они выпросили, что осталось в бутылке, для гребцов будто бы, но я уверен, что они им и понюхать не дали.
В бумаге еще правительство, на французском, английском и голландском языках, просило остановиться у так называемых Ковальских ворот, на первом рейде, и не ходить далее, в избежание больших неприятностей, прибавлено в бумаге, без объяснения, каких и для кого. Надо думать, что для губернаторского брюха.
Японское правительство – как мы знали из книг и потом убедились, и при этом случае, и впоследствии сами, – требует безусловного исполнения предписанной меры, и, в случае неисполнения, зависело ли оно от исполнителя или нет, последний остается в ответе. Например, иностранные корабли не иначе допускаются на второй и третий рейды, как с разрешения губернатора. Мы разрешения не требовали, но к нам явилась третья партия японцев, человек восемь кроме гребцов, и привезла "разрешение" идти и на второй рейд. Все эти посещения быстро следовали одно за другим. Губернатор поспешил прислать разрешение, не зная, намерены ли мы, по первому извещению, остановиться на указанном месте. Если б ему предписано было, например, истребить нас, он бы, конечно, не мог, но все-таки должен бы был стараться об этом, а в случае неудачи распороть себе брюхо.
Я полагаю так, судя по тому, что один из нагасакских губернаторов, несколько лет назад, распорол себе брюхо оттого, что командир английского судна не хотел принять присланных чрез этого губернатора подарков от японского двора. Губернатору приказано было отдать подарки, капитан не принял, и губернатор остался виноват, зачем не отдал.
Вскрывать себе брюхо – самый употребительный здесь способ умирать поневоле, по крайней мере так было в прежние времена. Заупрямься кто сделать это, правительство принимает этот труд на себя; но тогда виновный кроме позора публичной казни подвергается лишению имения, и это падает на его семейство. Кто-то из путешественников рассказывает, что здесь в круг воспитания молодых людей входило, между прочим, искусство ловко, сразу распарывать себе брюхо. Впоследствии, при случае как-нибудь, расскажу об этом, что узнаю, подробнее. Теперь некогда.
Третья партия японцев была лучше одета: кофты у них из тонкой, полупрозрачной черной материи, у некоторых вытканы белые знаки на спинах и рукавах – это гербы. Каждый, даже земледелец, имеет герб и право носить его на своей кофте. Но некоторые получают от своих начальников и вообще от высших лиц право носить их гербы, а высшие сановники – от сиогуна, как у нас ордена.
Но не все имеют право носить по две сабли за поясом: эта честь предоставлена только высшему классу и офицерам; солдаты носят по одной, а простой класс вовсе не носит; да он же ходит голый, так ему не за что было бы и прицепить ее, разве зимой.
Кофта у гостей или хозяев наших – как хотите, застегивалась длинными шелковыми снурками.
Они объявили, что они переводчики, оппер-толки и ондер-толки, то есть старшие и младшие. Они назначаются для сношений с голландской факторией. Мы посадили их в капитанскую каюту, и они вынули бумагу, в которой предлагалось множество вопросов.
Переводчиков здесь целое сословие: в короткое время у нас перебывало около тридцати, а всех их около шестидесяти человек; немного недостает до счета семидесяти толковников. Они знают только голландский язык и употребляются для сношений с голландцами, которые, сидя тут по целым годам, могли бы, конечно, и сами выучиться по-японски. Но кто станет учить их? это запрещено под смертною казнью. По-китайски японцы знают все, как мы по-французски, как шведы по-немецки, как ученые по-латыне. Пишут и по-японски, и по-китайски, но только произносят китайские письмена по-своему. Вообще всё: язык, вера их, обычаи, одежда, культура и воспитание – всё пришло к ним от китайцев.
Мы уже были предупреждены, что нас встретят здесь вопросами, и оттого приготовились отвечать, как следует, со всею откровенностью. Они спрашивали: откуда мы пришли, давно ли вышли, какого числа, сколько у нас людей на каждом корабле, как матросов, так и офицеров, сколько пушек и т. п.
Между прочим, после заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах? В этом ироническом вопросе проглядывала детская недоверчивость к нашему приходу и подозрительность насчет каких-нибудь враждебных замыслов с нашей стороны. Мы поспешили успокоить их и отвечали на всё искренно и простодушно и в то же время не могли воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые и смышленые физиономии, на косички и на приседанья.
Они ознакомились с нами и ободрились ласковым обхождением. Им принесли сладких пирожков, наливок, вина. Они вглядывались во всё с любопытством, осматривали всё в каюте, раскрыли рот от удивления, когда кто-то дотронулся до клавишей фортепиано. Им предложили сигар, но они не знали, как с ними обойтись: один закуривал, не откусив кончика, другой не с той стороны. Сигары были не по них: крепки. Одному сделалось дурно от духоты в каюте, а может быть и от качки, хотя волнение было слабое и движение фрегата едва заметное. Они вообще очень нежны. Например, не могли вовсе сидеть в каюте, беспрестанно отирали пот с головы и лица, отдувались и обмахивались веерами. Они вынимали из-за пазухи свой табак, чубуки из пальмового дерева с серебряным мундштуком и трубочкой, величиной с половину самого маленького женского наперстка. Табак лежал в бумажном кисете, не более porte-monnaie*. Японец брал оттуда щепоть табаку, скатывал его в комок, как вату или пеньку, когда хотят положить ее в ухо, клал в трубку и, курнув раза три, выбрасывал пепел и прятал трубку за пазуху. Всё это делалось с удивительной быстротой. Табак очень тонок и волокнист, как лен, красно-желтого цвета, и напоминает немного вкусом турецкий, но только очень слаб, а видом похож на рыжие густые волосы. * кошелек – франц.