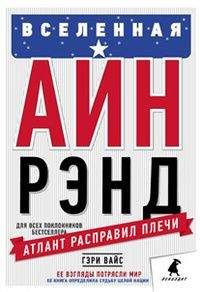Он обращался на факультеты журналистики. Никто не откликнулся. Из одного колледжа пришло коллективное письмо студентов: «…вступая на путь журналистики с сознанием высокой профессиональной ответственности, посвящая себя благородной миссии журналиста, мы солидарны в том, что принять предложение, подобное вашему, не совместимо с чувством собственного достоинства».
Редактор отдела новостей остался, но ушел редактор отдела городской жизни. Винанд взял на себя его обязанности и еще обязанности главного редактора, выпускающего, ответственного за связь с телеграфными агентствами, литературного редактора и многое другое. Он не выходил из здания, спал на диване в кабинете, как в первые годы существования «Знамени». Без пиджака и галстука, с распахнутым воротом он носился вверх и вниз по лестницам, отстукивая каблуками пулеметную дробь. При лифтах остались двое, остальные лифтеры испарились, и никто не мог сказать, куда, когда и почему, то ли из чувства солидарности с бастующими, то ли из страха.
Альва Скаррет не мог понять невозмутимости Винанда. Великолепный механизм — а именно таким ему всегда представлялся Винанд — никогда не функционировал столь безотказно. Команды были быстрыми, речи короткими, реакция мгновенной. В сумятице и суете, среди станков и опустевших конторок, замусоренных лестничных площадок, типографской краски и свинца, среди осколков разбитого влетевшим с улицы кирпичом оконного стекла Винанд двигался, разделяясь на множество своих двойников, поспевавших всюду, но всегда слитых в единую волю, в единую сущность вне времени и пространства. Нет, он не от мира сего, думал Скаррет, он и выглядит иначе, будто из других времен, да, совсем иначе, и неважно, какого фасона на нем брюки, он выглядит как персонаж из готического собора: гордо поднятая голова патриция, сухое лицо с туго обтянутыми кожей скулами. Капитан корабля, о котором всем, кроме самого капитана, известно, что он идет ко дну.
Альва Скаррет не сбежал. До него так и не дошла реальность, он бродил в каком-то тумане. Всякий раз, подъезжая к зданию и видя пикеты, он испытывал изумление. Он ни разу не пострадал, если не считать нескольких гнилых помидоров, брошенных в ветровое стекло его машины. Он старался помочь Винанду, пытался делать свое дело и пяти других человек, но не мог нормально работать даже за одного. Мало-помалу он рассыпался на части, он не мог найти ответ на осаждавшие его вопросы и потому не улавливал связь событий. Он путался под ногами, приставая ко всем с одним и тем же: «Но почему, почему? Как так вдруг, ни с того ни с сего?»
Он обратил внимание на медсестру в белом халате, мелькавшую в вестибюле, — внизу установили пост первой помощи. Он видел, как она относила в топку окровавленные бинты и вату. Его едва не стошнило не столько от их вида, сколько от ужаса, который стоял за ними и который наконец дошел до него: всего за пару дней это место, где шла разумная, цивилизованная жизнь, где блестели натертые полы, где занимались нужным, почтенным делом — заключали контракты, печатали рекламу детского белья и болтали о гольфе, — вдруг стало местом, где по коридорам носят окровавленные тряпки. Почему? Альва Скаррет не находил ответа.
— Не могу понять, — монотонно вопрошал он, — как Эллсворт получил такую власть над людьми… И ведь не какой-нибудь пошлый радикал из пивной, а образованный человек, эрудит, идеалист, остроумный, общительный… Разве тот, кто любит шутку, может быть расположен к насилию?.. Нет, Эллсворт не хотел этого, он не знал, чем все может кончиться, он любит людей, я готов поручиться за Эллсворта Тухи.
Один раз он отважился спросить Винанда:
— Гейл, почему ты не пойдешь на переговоры? По меньшей мере, почему не встретиться с ними?
— Заткнись.
— Но может ведь быть какая-то доля истины на их стороне. Они газетчики. Ты знаешь, что они говорят: свобода прессы…
Тогда и последовал взрыв ярости, которого он ждал последние дни и который, казалось, его миновал: голубые зрачки вспыхнули белым пламенем, исторгнув слепящую молнию, черты лица еще больше заострились, дрожь дошла до кончиков пальцев. На миг Скаррет увидел то, чего никогда раньше не замечал: Винанд подавил вспышку, подавил без единого звука, но и без облегчения. От усилия пот капельками выступил на впалых висках, руки на краю стола сжались в кулаки.
— Альва, если бы я тогда не сидел целую неделю на ступеньках «Газеты», где была бы та пресса, свободы которой они так жаждут?
Снаружи и внутри здания дежурили полицейские, это что-то давало, но не много. Однажды ночью в главный подъезд бросили бутыль с кислотой, она разъела вывеску и оставила безобразные, как язвы, пятна на стене. В подшипники одного из печатных станков бросили песок и вывели его из строя. Разгромили продовольственный магазин, владелец которого давал рекламу в «Знамени». В результате многие мелкие торговцы перестали помещать рекламу в газете. Ломали машины доставки. Один водитель был убит. Но бастующий профсоюз выступил против актов насилия — союз не подстрекал к ним, и большинство его членов не имели об этом никакого представления. «Новые рубежи» глухо возражали против достойных сожаления эксцессов, но тут же относили их к «спонтанным взрывам оправданного народного гнева».
От имени группы, называвшей себя бизнесменами-либералами, Гомер Слоттерн известил Винанда о разрыве контракта на рекламу. «Вы можете предъявить нам иск, однако мы полагаем, что имеем законное право на разрыв отношений. Мы поместили свою рекламу в газете с достойной репутацией, а не в бульварном листке, опозорившем себя в глазах общества. Нас пикетируют из-за связи с вами, мы несем убытки. Вас никто не читает». В эту группу входило большинство самых состоятельных рекламодателей «Знамени».
Гейл Винанд стоял у окна кабинета и смотрел на город.
«Я поддерживал забастовки, когда это было опасно. Всю свою жизнь я боролся с Гейлом Винандом. И никак не ожидал, что наступит день и дело повернется так, что я должен буду заявить, как заявляю сейчас, что я на стороне Гейла Винанда», — писал в «Кроникл» Остин Хэллер.
Винанд послал ему записку: «Черт побери, я не просил защищать меня. Г.В.».
«Новые рубежи» отозвались об Остине Хэллере как о реакционере, продавшемся большому бизнесу. Интеллектуальные светские дамы объявили Остина Хэллера старомодным.
Гейл Винанд стоял за конторкой и, как и прежде, писал передовицы. Сохранившийся штат не замечал в нем перемен: ни спешки, ни гневных всплесков. Никто не видел, что в его действиях появилось новое: он отправлялся в печатный цех и подолгу смотрел на исторгавшие пар гиганты и слушал их громыхание. Он подбирал свинцовую матрицу с пола наборного цеха, рассеянно вертел ее в пальцах, как ценный слиток, и бережно возвращал на верстак. Он стал бережлив во всем и, не замечая этого, непроизвольно подбирал карандаши и всякую мелочь. Полчаса он потратил, не слыша, как надрываются телефоны, на ремонт пишущей машинки. Дело было не в экономии, он подписывал счета, не обращая внимания на суммы. Скаррет боялся даже подумать о каждодневных расходах. Все дело было в том, что он лелеял каждую вещь в этом здании, здесь все до последней скрепки принадлежало ему, потому что принадлежало «Знамени».
В конце каждого дня он звонил Доминик. «Все идет отлично. Все под контролем. Не верь паникерам… Какого черта! Не хочу я говорить о газете. Лучше расскажи мне, как выглядит сад… Сегодня ты ходила купаться? Как озеро?.. Какое на тебе платье? Не забудь сегодня включить радио в восемь — передают твой любимый Второй концерт Рахманинова… Конечно, у меня есть время, чтобы быть в курсе всего… Ладно, ладно, как я могу провести бывшую журналистку, конечно, я посмотрел программу радиопередач. У нас достаточно сотрудников, но не на всех можно положиться, за ними надо присматривать, а у меня как раз выдалась минутка… Ни в коем случае не приезжай в город. Ты мне обещала… До свидания, дорогая». Он повесил трубку, но продолжал, улыбаясь, смотреть на телефон. Казалось, загородный дом был где-то на другом континенте и до него невозможно было добраться. От этого возникало ощущение осажденной крепости, и ему это нравилось — не сам факт, а ощущение. И лицом он напоминал какого-то отдаленного предка — из тех, что сражались на стенах замков.
Однажды вечером он отправился в ресторан через улицу, он давно уже толком не обедал. Было еще светло, когда он возвращался, — приглушенные лучи заходящего летнего солнца уютно вытягивались в теплом воздухе и, казалось, медлили с уходом, хотя солнце уже закатилось. От этого небо светилось свежестью, но улицы казались грязными. В углах старых зданий высвечивались коричневые и густо-оранжевые пятна. Перед входом в редакцию прохаживались пикетчики. Их было восемь, и они двигались по вытянутой окружности. Он узнал одного юношу, репортера уголовной хроники, других ему не приходилось видеть. Они несли плакаты: «Тухи, Хардинг, Аллен, Фальк», «Свободу прессе!», «Гейл Винанд попирает права человека».