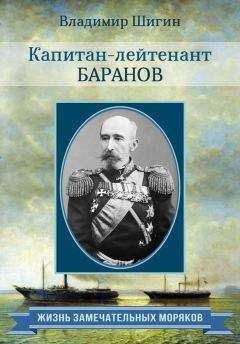Я вышел к высокому, почти обрывистому берегу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь сосновые лапы, сквозь кусты ивы, березовую и рябиновую листву виднелась не очень широкая, светлая даже ночью река. Она набегала к угору издалека, упиралась в него своими бесшумными сильными струями и заворачивала вправо, словно заигрывая с Бобришным угором. Тот, противоположный берег, был тоже не низкий, холмистый, но угор все равно господствовал над ним. Там, у воды, белели песчаные косы, а дальше клубилась лиственная зелень, перемежаемая более темными сосняками и ельниками. Левее была обширная, пересеченная извилистой старицей и окаймленная лиственным недвижимым лесом пойма. Коростель как раз жил в этой пойме. Сейчас он снова размеренно драл нога о ногу, как говорят в народе. Пойма была спокойно-светла, копила в своих низинках белый туманец, и он сперва стушевывал, потом тихо гасил цветочную синь и желтизну еще не кошенного луга.
Домик таинственно и кротко глядел на все это с высоты угора, а позади тихо спали теплые ельники.
* * *
Ты был праздничен и никак не успевал совладать со все нарождающимися своими чувствами. Еще не окрепло одно, как рождалось уже другое, еще более сильное, затем третье внахлестку, и так чуть ли не до утра. Но я как-то смутно помню эту первую ночь на Бобришном угоре. Под ступенькой крыльца мы нашли ключ от замка и вошли в твой светлый ночной дом. Ветки зеленели совсем рядом за стеклами, рядом же, почти под нами, ясная, бессонная стремилась река, и коростель неутомимо драл нога о ногу. И все было спокойно, отрадно и радостно.
— Здравствуй, земля моя родная.
Ты не знал, что я слышал эти слова, сказанные тобой вполголоса, но если бы и знал, а я бы знал, что ты знал, мне все равно не стало бы стыдно. Я благодарен тебе за то, что мое присутствие во время вашей встречи с родной землей не выглядело фамильярным. К тому же ведь так естественно здороваться с родиной. Но я знаю, что говорить об этой естественности уже, наверное, неестественно. Потому что опять же слова и разговор обо всем этом — категория меньшая по отношению к предмету разговора, а пошлость подстерегает меня за каждой строкой. Так беден наш язык, когда пытаешься говорить о сокровенном. В радиотехнике есть такой термин: полоса пропускания. Некое устройство ограничивает в радиоприемнике полосу слышимых частот, диапазон суживается. Так и любой разговор о том, что свято для человека, для измерения чего нет единиц, обрубает, суживает то, о чем говорим, о чем не можем не говорить…
Мы сложили поклажу: ружье, бинокль, охотничьи и рыболовные припасы. Тоня — жена твоего племянника — принесла хлеб, сахар и молоко, зажгла нам керосиновый фонарь, и от его красного света стало таинственно уютно и сразу же захотелось никуда не выходить. Вскоре Тоня ушла домой в деревню, а ты принес из сенец дров и затопил печь. И огонь словно вдохнул душу в домик на Бобришном угоре.
Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи. Тиль Уленшпигель на всю Фландрию вопил о пепле Клааса. И гёзы собирались на этот призыв со всей Фландрии. Мне же вопить не позволяет совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел: на наших глазах, быстро, один за другим потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего.
И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без этой малой родины невозможно. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина…
Что ж, покамест у нас есть Бобришный, есть родина. Нам нечего стыдиться писать это слово с маленькой буквы: ведь здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая родина. Да, человек счастлив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречься.
Как жарко топится печь! Комары печальным своим звоном напоминают о том, что мы ночуем в лесу. Мы оба любим тепло, и ты поминутно подкидываешь в огонь, а за окнами плывет летняя ночь, плывет время. Сейчас оно ассоциируется для меня с твоей рекою, которая никогда не останавливается. Невозвратность наших минут похожа на невозвратность слоеных речных струй, вода так же, как и время, никогда не вернется обратно.
* * *
Утром я проспал восход солнышка. Тебя не было, я взял бинокль и прямо с крыльца долго разглядывал еще дымящуюся реку, пока за одной из верб не увидел твой поплавок и удилище. Поплавок то и дело сносило течением, ты удил рыбу примерно в полукилометре от меня. Утро долго не кончалось, полдневный ветер еще только зачинался в сосновых лапах. Высыхающая роса в союзе с солнцем рождала в лесу радужно-золотую мглу, мимолетную, словно ребячий сон, золотую мглу. Радостно и отрешенно пели вокруг птицы. Прямо за домом раскатисто, многоколенно журчало горло дрозда-дерябы, тут и там застенчиво и озорно цвинькали синички, свистели над рекой стремительные зуйки. И где-то вдали, но ясно и чисто куковала кукушка. Ее голос был печален и светел, а ритм кукования был похож на биение сердца. Недаром в народе называли этот голос сиротским, вдовьим, вдовство для крестьянской женщины то же сиротство. А мы, мужчины, еще и теперь идеализируем действительность, и нам хочется слышать в голосе кукушки печаль, — и мы слышим эту печаль, забывая о том, что кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц.
Бобришный угор пел на все голоса. Я слышал здесь даже соловья, он раза два-три принимался щелкать и переходил на пение. Но здешний соловей был как бы слишком застенчив, он словно боялся быть веселее других и быстро замолкал, зато дрозды и синицы не смолкали ни на секунду. Откидываясь назад и хватаясь за ветки рябины, по крутой, осыпанной иглами тропке я съехал к реке, чтобы умыться, и вдруг увидел нечто странное. Муравьи узким сплошным потоком через весь склон угора спускались к воде и той же дорогой поднимались обратно. Это был не иначе как муравьиный водопой, под самыми окнами домика на Бобришном угоре. Они, эти крохотные трудяги, копошились, кувыркались, опять торопились, и все к реке, другие так же суматошно — от реки, вверх, и было жаль эту живую материю, раздробленную на миллионы одинаковых, живых комочков, движимых одинаковым инстинктом, ничем не отличающихся друг от друга живых комочков. Опять, как вечор на сентиментальности, я поймал себя на философствовании.
Как раз в это время и чмокнул соловей, я с удовольствием забыл про муравьев, сбегал за удочками, волнуясь, размотал леску…
И вот мы маячим на высоком тихом зеленом берегу, где прямо из песка растут могучие мясистые стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, обруснув листья, с хрустом закусываю: кислый и сочный щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык после такой закуски сразу как-то устанавливается на свое место. Мы удим, а это значит, мы уже как бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, с кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Наверное, в этом и есть главная тайная прелесть уженья и охоты. Глядя на поплавок, забываешь о преходящей своей сути, забываешь о неизбежности собственного конца. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще ни разу не ознобила тебя своим безжалостным инеем. Поплавок застрял в мозговом механизме, остановил его ход, его неумолимый бег к той стремнине, где бессменно караулят нас ехидные категории смерти, пространства и времени. Река струит свои светлые упругие пряди, стремительные зуйки словно прокалывают пространство меж берегами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском шуме звучит коровий колокол — жалкий наследник своих могучих меднобоких предков. И вдруг я как бы с удивлением замечаю, что поплавок уже давно недвижим, что, собственно, ведь и не клюет и что надо сматывать удочку…
И все вновь становится по-прежнему. А ты с наживкою в рукавице неутомимо ходишь от заводи к заводи. Ищешь, ждешь хорошего клева, и у каждого нового куста веришь в большую добычу. И каждый куст обманывает тебя, и ты вслух придумываешь причины безрыбья. Тебе хочется поймать хариуса. Я никогда не видел эту благородную рыбу, и ты хочешь поймать хариуса, но хариус ни разу не клюнул, и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с тревожным свистом слетела с гнезда, мы с минуту любовались тремя беззащитными яичками. Потом поднялись на угор.
Все-таки на уху-то наудил ты со своим терпением, а не я, проспавший восход солнца. Наверное, терпение нужно людям не меньше, чем азарт и смелость, иначе не сваришь никакую уху, никакую кашу, вся беда в том, какое терпение.
Вытряхивая из старой холщовой рукавицы остаток наживки в бадью с землею, ты рассказываешь о том, что дождевые черви живут в неволе месяцами и больше, если землю изредка сдабривать несколькими каплями молока и спитым чаем. «Что ж, чай с молоком — напиток давнишний, аристократический, напиток бунинских мелкопоместных дворян и северного крестьянства», — почему-то думается мне, а ты уже волокешь меня дальше, смотреть дятлову работу.