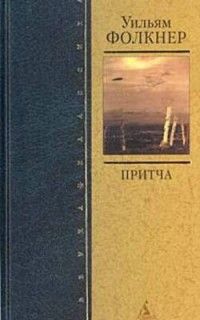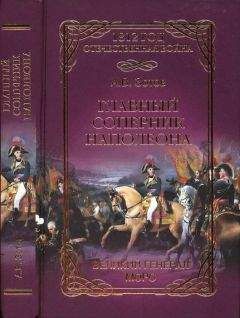— Выстоят, — сказал капрал.
— И более того, — с гордостью сказал старый генерал, — Победят. Поедем обратно?
Они вернулись к автомобилю и сели в него; снова поехали по гулким, пустым улицам, окружающим далекую, заполненную людьми Place de Ville. Потом опять оказались там, откуда выехали, автомобиль сбавил скорость и остановился напротив маленькой запертой калитки, возле нее сцепилось пять человек, над ними, словно яростные выкрики, разрывали воздух штыки четырех винтовок. Капрал взглянул на сцепившихся и негромко сказал:
— Их теперь одиннадцать.
— Их теперь одиннадцать, — так же негромко сказал старый генерал; последовал еще один жест тонкой, изящной руки из-под плаща. — Подожди. Давай посмотрим: уведенный оттуда рвется обратно, хоть и убежден, что это камера смертников.
И они сидели с минуту, глядя, как пятый (тот, кого два часа назад увели пришедшие за Полчеком охранники) упорно и яростно рвется из рук четверых не прочь от калитки, а к ней, потом старый генерал вылез из машины, капрал последовал за ним, и генерал спросил, по-прежнему не повышая голоса:
— Что тут происходит, сержант?
Все пятеро замерли в напряженных позах. Арестованный оглянулся, потом вырвался и побежал через дорогу к старому генералу с капралом, четверо бросились за ним и схватили его снова.
— Стойте! — прошипел сержант. — Смирно! Его зовут Пьер Бук. Он вовсе не из этого отделения, но мы обнаружили эту ошибку, лишь когда один из них, он бросил взгляд на капрала, — ты — снизошел до того, что предъявил свой список. Мы схватили его, когда он пытался вернуться назад. Он отрицает свое имя; он даже не предъявил назначения, пока мы не отобрали его.
Держа одной рукой невысокого яростного человека, он достал из кармана измятую бумагу. Арестованный тут же выхватил ее у сержанта.
— Врешь! — крикнул он сержанту. И, прежде чем ему успели помешать, он разорвал назначение в клочки и швырнул их в лицо старому генералу.
— Врешь! — крикнул он и ему. Клочки бумаги вились, будто конфетти, или невесомые снежинки, или пушинки возле золоченой фуражки и спокойного, безразличного, непроницаемого лица видевшего все и не верящего ни во что человека.
— Врешь! — снова крикнул он. — Меня зовут не Пьер Бук. Я Петр… — и что-то прибавил на резком, почти музыкальном средневосточном языке с таким обилием согласных, что слова были почти неразборчивы. Потом повернулся к капралу, торопливо опустился на колени, схватил его руку и что-то сказал ему на том же непонятном языке, капрал ответил ему на нем же, однако этот человек крепко держал руку капрала и не поднимался с колен, капрал снова заговорил на том же языке, словно повторяя сказанное с другим дополнением, может быть, именем, потом обратился к нему в третий раз с третьим небольшим изменением звуков, и тут этот человек поднялся и застыл навытяжку перед капралом, капрал снова что-то сказал, и этот человек повернулся, четко сделав строевые пол-оборота, четверо охранников торопливо бросились к нему, но капрал сказал им по-французски:
— Не нужно трогать его. Только отоприте калитку.
Однако старый генерал не шевельнулся, он замер под черным плащом, сдержанный, спокойный, даже не задумчивый — просто непроницаемый, и произнес безо всякой интонации:
— «Прости меня, я не ведал, что творю». А ты сказал: «Будь человеком», но это его не тронуло. Затем ты сказал: «Будь зеттлани», и это тоже не подействовало. Тогда ты сказал: «Будь солдатом», и он стал солдатом.
Он повернулся, снова влез в автомобиль и замер под широким мягким плащом в углу сиденья; сержант торопливо подошел к капралу и снова встал за его плечом; теперь старый генерал заговорил на том же резком языке без гласных:
— И он стал солдатом. Нет, снова стал солдатом. Доброй ночи, мое дитя.
— Прощай, отец, — ответил капрал.
— Не прощай, — сказал старый генерал. — Я тоже крепок; я тоже не легко сдаюсь. Не забывай, чья кровь в тебе бросила мне вызов. — Потом сказал по-французски водителю:
— Поехали домой.
Автомобиль уехал. Капрал с сержантом повернулись, сержант опять находился за плечом капрала, но не касался его, они вошли в железную калитку, ее распахнул перед ними один из часовых, потом снова затворил и запер. Капрал машинально направился в коридор, ведущий к камере, но сержант остановил его и повернул в низкий тесный проход, по которому, пригнувшись, мог пройти лишь один человек, — односторонний потайной ход, ведущий словно бы в самые недра тюрьмы; сержант отомкнул тяжелую дверь и снова запер ее за капралом, теперь это была настоящая, залитая резким светом камера чуть побольше чулана, в ней находились длинные деревянные нары вместо коек, жестяное ведро вместо туалета и двое заключенных. У одного было самодовольное лицо, дерзкое и насмешливое, жуликоватое и добродушное, с тонкими усиками; на нем был даже грязный берет и повязанный вокруг шеи платок, в уголке рта прилипла мокрая сигарета, он сидел, прислонясь спиной к стене своей узкой монмартрской аллеи, сунув руки в карманы и закинув ногу на ногу, другой, пониже, стоял возле него со спокойной и терпеливой верностью слепой собаки — приземистый, похожий на гориллу человек с маленькой обезьяньей головой, одутловатым лицом и слюнявыми губами, его огромные пустые и неподвижные руки свисали почти до колен.
— Добро пожаловать, — сказал первый. — И тебя, стало быть, тоже? Зови меня Кролик; в префектуре кто угодно подтвердит, что это моя кличка.
Не вынимая рук из карманов, он указал локтем на стоящего рядом.
— А это Кастет — для краткости Конь. Мы отправляемся в город, а, Конь?
Второй издал какой-то неразборчивый звук.
— Слышишь? — сказал первый. — Он может выговорить «Париж» не хуже любого. Скажи-ка еще раз, куда мы отправимся завтра?
Второй издал глухой плаксивый звук. Это было правдой; теперь капрал разобрал сказанное.
— А почему он в военной форме? — спросил капрал.
— Эти сучьи дети напугали его, — сказал первый. — Я говорю не о немцах. Как ты думаешь, они удовольствуются, расстреляв одного человека из всего полка?
— Не знаю, — сказал капрал. — Он что, всегда был таким?
— Сигареты есть? — спросил первый. — У меня кончились. Капрал протянул ему пачку. Тот выплюнул окурок, даже не повернув головы, и достал из пачки сигарету.
— Спасибо.
Капрал вынул зажигалку.
— Спасибо, — сказал тот.
Он взял зажигалку, щелкнул ею и, уже — или еще — говоря, зажег подпрыгивающую сигарету, потом сложил руки на груди и обхватил пальцами локти.
— О чем ты спрашивал? Всегда ли он был таким? Не-е. Умом не блистал, но был в порядке, пока…
— Что? — Капрал глядел на него, протянув руку.
— Зажигалку.
— Прошу прощенья?
— Мою зажигалку, — сказал капрал.
Их взгляды встретились. Кролик чуть шевельнул руками и показал капралу пустые ладони.
Капрал смотрел на него, не убирая руки.
— Черт возьми, — сказал Кролик. — Не разбивай мне сердце. Не говори, будто ты видел, что я сделал с ней. Если видел, то они правы; просто они ждали на день дольше, чем нужно.
Он сделал еще одно быстрое движение рукой; когда он разжал ее, в ней была зажигалка. Капрал взял ее.
— Чудно ведь, а? — сказал Кролик. — Оказывается, человек представляет собой не сумму своих пороков — просто привычек. Смотри, после завтрашнего утра всем нам она уже не понадобится, а у кого она будет до тех пор неважно. И, однако же, нужно получить ее назад, потому что ты привык, что она твоя, а мне нужно попытаться присвоить ее, так как это одна из моих естественных привычек. Видно, из-за них и затевается назавтра вся эта кутерьма — они выведут на плац целый гарнизон лишь затем, чтобы избавить трех паршивых ублюдков от скверной привычки дышать. А, Конь? — окликнул он второго.
— Париж, — хрипло произнес тот.
— Вот-вот, — сказал Кролик. — От этого и хотят избавить нас завтра: от скверной привычки не попадать в Париж после четырехлетних стараний. Ничего, теперь попадем; вот и капрал отправится с нами присмотреть, чтобы все было в порядке.
— Что он натворил? — спросил капрал.
— Не церемонься, — сказал Кролик. — Не он, а мы. Убийство. Эта старая дама сама была виновата; ей нужно было только сказать, где спрятаны деньги, а потом помалкивать. А она вместо этого лежала в постели и орала как резаная, пришлось ее придушить, иначе было бы не на что добираться до Парижа…
— Париж, — сказал второй плачущим голосом.
— Только этого мы и хотели, — сказал Кролик. — Только эта цель и была у нас: добраться до Парижа. Однако люди вечно посылали его не туда, указывали неверную дорогу, травили собаками, от полицейских он только и слышал: «Ступай, ступай», — знаешь, как это бывает. И когда мы столкнулись — в Клермон-Ферране, в 1914-м, — он уже и не помнил, сколько бродил, потому что мы не знали. сколько ему лет. Знали только, что долго, начал он еще в детстве… Ты знал, что тебе нужно в Париж, еще не зная, что тебе понадобится женщина, а, Конь?