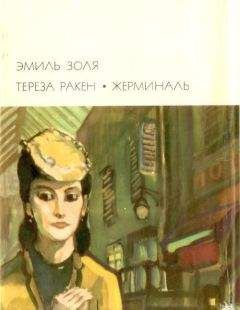Сгущались сумерки, в комнате стало темно, было пять часов вечера. Г-н Энбо по-прежнему сидел в оцепенении, прижав локтями бумаги. Вдруг раздался грохот, г-н Энбо, вздрогнув, подумал, что возвратились любовники. Ах, негодяи! Но шум все возрастал, и, когда г-н Энбо подошел к окну кабинета, раздался грозный клич:
— Хлеба! Хлеба! Хлеба!
Бастующие вторглись в Монсу, тогда как жандармы, вообразив, что нападение угрожает Ворейской шахте, повернули коней и поскакали туда.
— Как раз в это время в двух километрах от первых домов города, не доезжая перекрестка, где шоссе пересекало Вандамскую дорогу, г-жа Энбо и ее молодые спутницы увидели, как проходит грозное полчище. Они весело провели в Маршьене весь день; завтрак в доме директора литейного завода очень удался; затем осматривали заводские цеха и соседний стекольный завод — все было так интересно. А когда погожий зимний день уже был на исходе, отправились домой, и Сесиль пришла фантазия выпить кружку молока на маленькой ферме, стоявшей у дороги. Все вылезли из коляски, Негрель ловко соскочил с седла. Увидев столь блестящее общество, хозяйка испуганно заметалась, собралась было постелить на стол скатерть и подать молоко в горнице, но Люси и Жанна пожелали увидеть, как доят коров, и, захватив с собой кружки; отправились в хлев, обратив это знакомство со скотным двором в забавное похождение, и весело смеялись, когда путались ногами в соломенной подстилке.
Госпожа Энбо с видом снисходительной мамаши прихлебывала: парное молоко, как вдруг ее встревожил странный шум, донесшийся с улицы.
— Что там такое?
В хлеву, построенном близ дороги, были сделаны широкие ворота, так как вторая его половина служила сеновалом. Девушки высунули головы и с удивлением смотрели, как с левой стороны по дороге движется что-то черное, потом различили, что это толпа народу, которая с воем свернула на шоссе с Вандамской дороги.
— Ах, дьявол! — пробормотал Негрель, выйдя из хлева. — Неужели ваши крикуны в конце концов рассердились?
— Да это, верно, опять углекопы, — сказала крестьянка. — Второй раз идут. Дело-то, видать, плохо повернулось, они по всей округе хозяйничают… Она говорила осторожно, стараясь по выражению лиц угадать, какое впечатление производят на гостей ее слова, и, заметив, что нежданная встреча вызвала у всех испуг, поспешила добавить:
— Ах, уж эти оборванцы! Ах, оборванцы!
Видя, что теперь не успеть сесть в коляску и умчаться в Монсу, Негрель велел кучеру поскорее въехать во двор фермы и поставить упряжку за сараем, чтобы ее не было видно с дороги. Свою верховую лошадь, которую держал под уздцы соседский мальчишка, он сам привязал во дворе под навесом. Возвратившись, он нашел свою тетушку и барышень в полном расстройстве чувств; они собирались идти вслед за крестьянкой в дом я укрыться там. Но Негрель полагал, что остаться в хлеву безопаснее, — конечно, никому в голову не придет искать их в сене. Ворота, однако, закрывались неплотно, и в щели между ветхими досками видно было все, что делается на дороге.
— Ну, смелее! — сказал Негрель. — Мы дорого продадим свою жизнь.
От этой шутки дамам стало еще страшнее. Шум все возрастал, но пока никого не было видно: по пустынному шоссе словно проносился ветер, предвещавший грозу и бурю.
— Нет, не хочу смотреть, не хочу! — сказала Сесиль и зарылась в сено.
Госпожа Энбо, очень бледная, исполненная гнева против этих людей, которые испортили ей такой приятный день и такое милое развлечение, стояла в глубине сарая и брезгливо, исподлобья глядела на створки ворот; Люси и Жанна, хоть их и била дрожь, смотрели в щель между досками, не желая упустить захватывающее зрелище.
Гул, подобный раскатам грома, приближался; земля дрожала под ногами идущих: впереди колонны вертелся Жанлен и дул в пастуший рожок.
— Открывайте скорей свои флакончики с духами, — народ шествует весь в поту! — прошептал Негрель, который, несмотря на свои республиканские взгляды, любил позабавить дам насмешками над чернью. Но ураган криков и злобных жестов мигом развеял все его остроумие. На дороге показались женщины, около тысячи женщин с рассыпавшимися по плечам волосами, все растрепавшиеся за эти часы скитаний в ветреный день, все в лохмотьях; сквозь прорехи у многих видно было голое тело, изнуренное, преждевременно увядшее тело, уставшее рожать детей, обреченных на голодную жизнь. Иные несли на руках младенцев и высоко поднимали их, как хоругви скорби и мести, другие, помоложе, с тугой грудью воительниц, потрясали палками; а старухи, ужасные старухи, вопили так громко, что казалось, на их худых шеях вот-вот лопнут жилы. Затем показались мужчины, две тысячи разъяренных мужчин — забойщики, крепильщики, проходчики, ремонтные рабочие; они шли тесными рядами, такой густой, плотной толпою, что сливались в единый поток, и нельзя было различить ни выцветших, линялых штанов, ни рваных шерстяных фуфаек — все как будто облеклись в однообразное бурое одеяние нищеты. Глаза блестели, из широко открытых ртов вылетали ритмические звуки — пели «Марсельезу», — слов нельзя было разобрать, они терялись в неясном реве, которому вторил дробный стук деревянных башмаков по мерзлой земле. Над головами, среди целого леса железных прутьев, поднимался топор, который держали прямо, как свечу; и этот единственный топор был словно знаменем всего полчища, острое его лезвие вырисовывалось в еще светлом небе, как нож гильотины.
— Какие зверские лица! — пролепетала г-жа Энбо.
Негрель процедил сквозь зубы:
— Что за дьявол! Ни одного не узнаю! Откуда взялись эти разбойничьи физиономии?
И в самом деле, гнев, голод, страдания, длившиеся два месяца, и эта бешеная скачка от одной шахты к другой разительно изменили добродушные лица углекопов Монсу, придали им что-то звериное, хищное. Как раз в эти минуты закатывалось солнце, последние, его лучи темно-красной, словно кровавой, пеленой покрыли равнину. Казалось, по дороге рекой льется кровь; женщины, мужчины бежали, как будто обагренные кровью, как мясники на бойне.
— О, великолепно! — вполголоса воскликнули Люси и Жанна; как артистические натуры обе были взволнованы грозной красотой этой картины. И все же они перепугались и отошли поближе к г-же Энбо, стоявшей у колоды для водопоя. Всех мороз по коже продирал при мысли, что достаточно одному из идущих заглянуть в щель между рассохшимися досками этих ворот, и всех, кто спрятался тут, растерзают. Даже Негрель, весьма храбрый молодой человек, побледнел от непреодолимого страха, от ужаса перед чем-то неведомым, непостижимым. Сесиль зарылась в сено и не смела пошевелиться; остальные же, хотя им и хотелось отвести взгляд, не могли отвернуться и, против своей воли, смотрели на дорогу.
Перед ними в багровом свете заката предстало видение — призрак революции, которая неизбежно совершится в конце века и в кровавый вечер всех их сметет. Да, когда-нибудь вечером народ, вырвавшись на волю, сбросив узду, вот так помчится по дорогам и, обагренный кровью богачей, вздернет на пики отрубленные головы и будет носить их, будет разбрасывать по земле золото из их разбитых сундуков. Вот так же будут вопить женщины, а у мужчин будет этот страшный, волчий оскал зубов, готовых перегрызть врагам горло. Да, да будут на тех людях такие же лохмотья, так же будут греметь их грубые деревянные башмаки; такие же полчища будут обдавать встречных запахом немытых тел, смрадным дыханием, и натиск этой орды варваров сметет старый мир. Запылают пожары, в городах не оставят камня на камне; люди разбегутся по лесам и возвратятся к жизни дикарей; так будет после великого разгула, великого пира, когда голытьба за одну ночь овладеет женами богачей и опустошит их винные погреба. Не останется больше ничего — ни единого су из прежних богатств, ни малейшей тени былой власти, и тогда на обновленной земле вырастет нечто новое. Все эти ужасы и нес с собою людской поток, проносившийся по дороге, неумолимый, словно стихийная сила природы, словно ураганный ветер, хлеставший в лицо тем, кто, притаясь, укрывался от него.
Перекрывая «Марсельезу», раздался громкий клич:
— Хлеба! Хлеба! Хлеба!
Люси и Жанна прижались к г-же Энбо, а та и сама замирала от страха; Негрель встал впереди женщин, словно хотел грудью защитить их. Не в этот ли вечер рухнет старое общество? То, что они видели, ошеломило их. Полчище прошло, по дороге тянулись в хвосте. Лишь отставшие, как вдруг откуда-то вынырнула Мукетта. Она замешкалась, оттого что подстерегала обывателей — не появятся ли они у садовой калитки или в окнах особняков, и как только замечала их, то, не имея возможности плюнуть им в лицо, тотчас иным способом выражала им величайшее свое презрение. Вероятно, она и тут доглядела какого-нибудь буржуа, потому что вдруг задрала юбки и, наклонившись, выпятила свои огромный голый зад, на который пал последний багровый луч Солнца. И эта выходка никому не показалась непристойной или смешной, — в ней было что-то страшное.