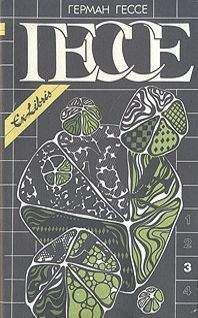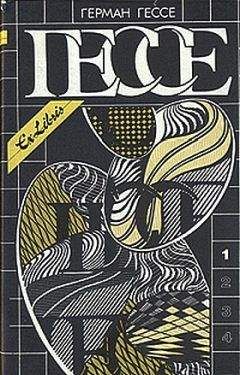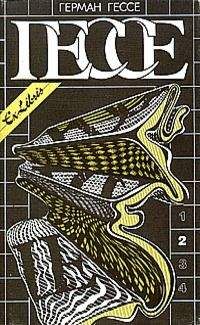Он жил скрытно, жизнью странника, который, не страшась людей, все же старается избегать с ними встреч. И вот однажды путь его лежал через холмистую местность, изобилующую густыми травами, и местность эта, прекрасная и светлая, казалось, приветствует его, как старого знакомого: все это он уже видел однажды — этот луг, серебрящийся на ветру, эти ракиты, и все напоминало ему о том светлом, невинном времени, когда он еще не ведал, что такое любовь и ревность, ненависть и месть. Это было то самое пастбище, на котором он со своими товарищами когда-то пас коров, это было самое светлое время его юности, оно взирало на него из далеких, туманных пределов безвозвратности. Сладкой грустью ответствовало сердце его всем этим приветствующим его голосам: шепоту ветра, ласкающему звонкие кудри ивы, бодрым, стремительным маршам ручьев, пению птиц и низкому, золотому гудению шмелей. Ароматы и звуки эти манили, сулили пристанище и родину; никогда еще он, привыкший к кочевой пастушеской жизни, не встречал мест, которые показались бы ему такими близкими сердцу и родными.
Сопровождаемый и ведомый этими голосами, исполненный чувств, похожих на те, что испытывает человек, вернувшийся под родной кров, шел он по щедрой, приветливой земле, впервые за много месяцев опасностей и лишений не как беглец, всем чужой и обреченный на гибель, а с открытым сердцем, свободный от мыслей, свободный от желаний, отрешившийся от прошлого и полностью отдавшийся кроткой радости настоящего, тому, что его окружало, воспринимающий, благодарный и немного удивленный — самому себе и этому новому, непривычному, впервые и с восторгом испытанному состоянию души, этой открытости без желаний, этой радости без напряжения, этому проникнутому благодарным вниманием, созерцательному наслаждению. Ноги сами понесли его по зеленым лугам к лесу, под сень деревьев, в прохладные, расцвеченные мелкими солнечными пятнами сумерки, и здесь чувство вновь обретенной родины усилилось и повело его по тропинкам, которые словно сами просились ему под ноги; и наконец, миновав папоротниковые заросли, похожие на маленький густой лес, занесенный неведомо откуда в самое сердце чащи, он очутился перед крохотной хижиной, а перед хижиной неподвижно сидел на земле тот самый йог, за которым он когда-то тайно наблюдал и которому приносил молоко.
Словно вдруг воспрянув ото сна, Даса остановился. Здесь все осталось по-прежнему, время не коснулось этой обители, здесь не было ни убийств, ни страданий; казалось, время остановилось здесь и жизнь застыла навеки, обратившись в прочный кристалл. Он смотрел на старика, и в сердце его медленно возвращались то восхищенное удивление, та любовь и тоска, которые он испытал, увидев его в первый раз. Он смотрел на хижину и думал, что ее следовало бы починить до того, как наступит пора дождей. Потом, набравшись храбрости, он осторожно подошел ближе, заглянул в хижину и окинул взором все, что было внутри; там было не много вещей, там не было почти ничего: ложе из сухих листьев, сделанная из тыквы чаша для воды и пустая сума, сплетенная из лыка. Он взял суму, отправился в лес, набрал плодов и сладких кореньев, затем, вернувшись, — взял чашу и сходил за свежей водой. Все, что можно было сделать, он сделал. Так мало, оказывается, нужно человеку для жизни. Усевшись на землю, Даса погрузился в грезы. Ему приятны были этот безмятежный покой в лесном безмолвии, его собственные сны наяву, он был доволен собой и тем внутренним голосом, что привел его сюда, где он однажды, еще юношей, испытал что-то похожее на мир, счастье и познал чувство родины.
Так он и остался с безмолвным отшельником. Он устроил ему новое ложе из свежих листьев, стал заботиться о пище для него и для себя, починил старую хижину и начал строить неподалеку от нее новую, в которой хотел поселиться сам. Старик, казалось, не имел ничего против пришельца, хотя Даса никак не мог понять, заметил ли тот вообще его присутствие. Он прерывал свои занятия самоуглублением лишь для того, чтобы утолить голод и жажду, отдохнуть в хижине или прогуляться по лесу. Даса жил подле него, как живет подле своего господина слуга, как живет рядом с человеком маленькое домашнее животное, ручная птица или мунго — преданно и незаметно. Так как долгое время он должен был скрываться и жизнь его — жизнь беглеца — полна была опасностей и тревог, сомнений и укоров совести и постоянного ожидания погони, его новая, спокойная жизнь в лесу, легкий труд и соседство человека, который, похоже, вовсе не замечал его, благотворно подействовали на него: он спал без кошмарных сновидений и подолгу, порой целыми днями, не вспоминал о том, что с ним приключилось. О будущем он не заботился, а если его и одолевала на миг тоска, если рождалось в нем желание, то лишь одно-единственное: остаться здесь, добиться расположения старца, чтобы тот открыл ему тайну, посвятил в секреты подвижничества, самому стать йогом, обрести прибежище в учении йоги, в гордой отрешенности от земной суеты. Он стал подражать досточтимому отшельнику, пытаясь перенять его позу, научиться сидеть подобно ему, неподвижно, со скрещенными ногами, устремив взор свой в неведомый, надреальный мир, и быть недоступным для всего, что окружает. При этом он скоро уставал, руки и ноги его ныли от неподвижности, ломило спину, и, одолеваемый комарами, с раздраженной, зудящей кожей, он принужден был шевелиться, отмахивался от насекомых, чесался и в конце концов вставал. Однако несколько раз ему все же удавалось почувствовать себя пустым и невесомым, плавно воспарившим над землей, как это бывает порой в сновидениях: ноги едва-едва касаются земли, а затем мягко отталкиваются от нее, и тело, легкое как пушинка, плывет по воздуху. В эти редкие мгновения ему казалось, будто он догадывается, к чему должно стремиться, чтобы продлить этот миг парения, чтобы тело и душа освободились бы от собственной тяжести и, объятые великим дыханием жизни иной, чистой, солнечной, вознеслись бы в мир запредельный, пребывающий вне времени, растворились в Неизменном. Но это были всего лишь мгновения и догадки. И каждый раз, возвращаясь из этих мгновений назад, к тому, что было давно знакомо и привычно, он укреплялся в желании стать учеником мудрого отшельника, дабы тот научил его своим упражнениям, помог ему овладеть сокровенным искусством, сделал его йогом. Но как добиться этого? Глядя на старика, трудно было поверить в то, что он когда-нибудь обратит на него свой взор, что они когда-нибудь обменяются речами. Старик, живущий вне времени и пространства, казалось, был бесконечно далек и от речей.
И все же случилось так, что Даса однажды нарушил молчание. В те дни к нему вновь ночь за ночью приходили сновидения — то ошеломляюще сладкие, то ошеломляюще мерзкие — о его жене Правати или о полной ужасов жизни беглеца. И днем его тоже преследовали неудачи, он то и дело тщетно пытался упражняться в самоуглублении, его отвлекали назойливые мысли о женщинах, о любви; чтобы избавиться от них, он долго бродил по лесу. Причиной тому, верно, была погода: душная, с жаркими порывами ветра. И вот стоял один из таких удушливых дней, гудели комары; Даса вновь видел ночью тяжелый, оставляющий после себя страх и тяжесть на сердце сон, содержание которого он уже не помнил, но который теперь, после пробуждения, показался ему жалким и, по существу, запретным и глубоко постыдным падением в болото прежних состояний и жизненных вех. Весь день он бродил как неприкаянный вокруг хижины или сидел возле нее, угрюмый и полный тревоги, начинал одну работу, брался, не доделав ее до конца, за другую, много раз садился на землю, принимал позу самоуглубления, но каждый раз его тут же охватывало суетливое беспокойство, он то и дело вздрагивал и шевелился, голые ступни его словно щекотали десятки муравьев, шея горела, он едва выдерживал несколько минут и все время косился, робко и пристыженно, в сторону старика, который сидел в совершенной позе и лицо которого, с обращенными внутрь глазами, осиянное недосягаемо чистым светом просветленной кротости, было подобно нежно трепещущей в лазури головке цветка.
Когда же йог наконец поднялся и направил стопы свои к хижине, Даса, давно поджидавший этой минуты, преградил ему путь и молвил с отвагой отчаяния:
— Досточтимый, прости, что я осмелился нарушить твой покой. Я ищу мира, я ищу покоя, я хотел бы жить, как ты, и стать таким же, как ты. Ты видишь, я еще молод, но на долю мою уже выпало много страданий, жестоко обошлась со мною судьба. Я рожден был царем, но меня отдали в пастухи; я стал пастухом, вырос веселым и сильным, как молодой бычок, и сердце мое было свободно от зла и пороков. Потом жизнь раскрыла мне глаза на женщин, и когда я повстречал самую красивую из них, я отдал ей свою свободу: я бы умер, если бы она не стала моей. Я оставил ради Правати своих товарищей, пастухов, я добивался ее руки, и желание мое исполнилось: я стал зятем и батраком; тяжким был мой труд, но зато Правати была со мной и любила меня, а может быть, это мне только казалось; каждый вечер мне открывались ее объятия, ее сердце. И вот в наши края пришел раджа, тот самый, из-за которого меня лишили отчего дома, — пришел и отнял у меня Правати, я видел ее в его шатре. Это была самая страшная рана из всех, что нанесла мне судьба, она преобразила меня и всю мою жизнь. Я убил раджу, я обагрил руки кровью и принужден был влачить жизнь преступника, беглеца; все было против меня, ни на минуту не мог я поручиться за свою голову, пока не попал сюда. Я безумец, о досточтимый, я убийца, — быть может, меня еще схватят и четвертуют. Я не в силах больше жить этой ужасной жизнью, я хотел бы избавиться от нее.