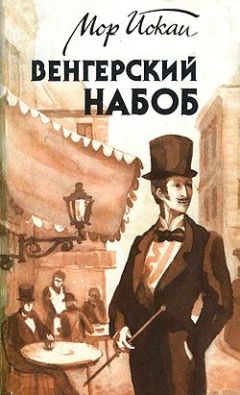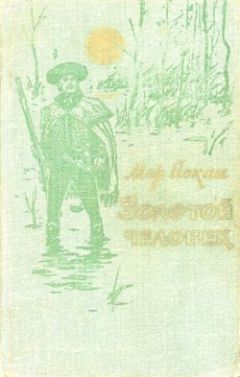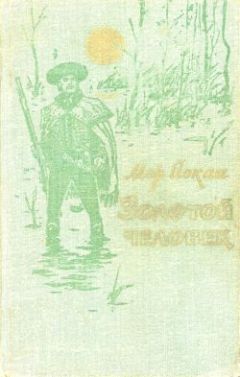– Здесь, сверху, сплошь их сиятельства да превосходительства идут. Сиятельных господ куда труднее изучить, у них ведь, кроме обычных, еще свои, сиятельные пороки и добродетели есть. Вот первый – будь он обыкновенным человеком, про него бы сказали: распущенный, о женщинах думает дурно, исключая свою жену, о которой вообще не думает; вдобавок горяч и неуравновешен, в раж войдет – за словом в карман не полезет, с мужчинами говорит или с дамами, все равно. В любом обществе, сколько бы юных девушек его ни окружало, такие рассказывает анекдоты, что и мужчина-то поскромней краской зальется; а вот поди ты: записной патриот, имя его гремит; значит, и почтения требует к себе, с ним нельзя как со всеми обращаться. Но это же почтение – вернейшее против него оружие. Он наверняка и тебя пустится донимать своими ухаживаньями, но ты не пытайся отклонять их, а только восхваляй в ответ его гражданские добродетели. Это его сразу в остолбенение приводит. Я пробовала, всегда удавалось. Чуть только свои фривольные, игривые или дерзкие, вульгарные подходы начнет, как твое преувеличенное почтение мигом напомнит ему о его общественной репутации. Ни с кем он не чувствует себя принужденней, как с женщинами, которые, едва он настроится на доверительный лад, о его деяниях начинают твердить, его речи восхвалять в дворянском собрании, а перейдет к прямой атаке – воззрятся на него, как на статую Нельсона, вчетверо его самого выше, которой никак уж неуместно сойти со своего пьедестала. Он тебя простушкой, дурочкой будет за то почитать, но ведь тебе же лучше.
– Кто же это такой? – спросила Фанни, смачивая языком кончик карандаша.
– Граф Имре Сепкиешди.
И Фанни начертала напротив его фамилии: «Муж славный и почтения достойный».
Забавнейшая ситуация: будто некая дамская полиция, которая заводит карточки на кавалеров, дабы заранее знать, с кем дело придется иметь.
– Засим еще один сановный господин.
Об этом уж и не знаю, слыхивал бы кто на свете, не будь у него титула. Никаких свойств особых за ним не приметила, хотя видеться изволим каждый месяц. Одно разве что: аппетит превосходный, но все жалуется, будто ему того или этого нельзя. Приятнейший человек: перед обедом уверяет, что есть не хочется, после обеда, что переел; а обнесешь его – сердится, что голодным встал из-за стола. С этим меньше всего хлопот.
– Так и запишем: барон Джордж (не Дёрдь, конечно!) Малнаи – приятнейший человек.
– А вот граф Гергей Эрдеи, милый забавник. Симпатичный юноша, все общество развлекает своими шутками. Повадки всех наций подмечает и передразнивает: англичанина, испанца, француза, еврея может представить, по-разному нахлобучивая шляпу. Но человек самый безобидный: именно потому, что все его так любят, не приходится опасаться, что сам он влюбится в кого-нибудь. Вот уж кто не способен неопытную шестнадцатилетнюю девушку соблазнить: он уже доволен, если рассмешит ее. Сам, можно сказать, дитя невинное, смело можно вместо пажа с девушками на балы посылать, никто их не осудит. Ценители его проделок всегда будут за него.
«Граф Гергей Эрдеи, – пометила Фанни, – милый забавник».
– Дальше пойдем: граф Луи Карваи. Его иначе и вообразить нельзя, как только с таким офранцуженным именем. Вылитый светский денди талейрановских времен. Беспрестанно вниманием своим надоедает, ожидая к себе такого же, и с вопросом обращается только затем, чтобы показать, насколько твой ответ беспомощен. Настоящий живой укор – неведомо за что. Никогда наперед не знаешь, чем его обидишь. А уж оскорбился – годами дуться может, не говоря отчего. Достаточно на конверте «Лайошу» написать вместо «Луи», чтобы разобиделся насмерть. Если при нем кто-то к тебе приходит пониже его рангом и ты в нарушение этикета встаешь вместо того, чтобы кивнуть, или, еще хуже, выходишь навстречу, Луи уже гневается и заявляет, что ему оскорбление нанесено. Кого с ним рядом посадить и кого напротив? Вот что меня ставит в тупик, ведь он, может статься, сердится на кого-нибудь и подумает, это ты с умыслом к нему кого-то подсадила, и враждебно настроится против твоего мужа. А уж кто там ему нравится, кто нет, об этом он не сообщает – сами, мол, голову ломайте, тайны его причуд изощренных разгадывайте.
– Напишем про него: колючий джентльмен. (Снова нонсенс!)
– Теперь граф Шарошди, губернатор. Славный, с добрым сердцем человек, но барин ужасный. Доброе дело всегда сделает с радостью, крестьянину поможет, бедняку, но за людей их считать – этого не ждите от него. Крепостным его живется определенно лучше всех крестьян в Венгрии, но недворян не жалует, даже из собственных писарей. С тобой будет натянут немножко, но сердце у него доброе, а уж к доброму-то сердцу ключ мы подберем. Да и вообще не худо бы к идеям полиберальней его расположить, и, по-моему, уж коли мы объединимся, победа обеспечена.
Тут возник между юными дамами некоторый спор, у кого из них сил и преимуществ больше для такой победы, но, поскольку каждая стремилась уступить первенство другой, вопрос остался открытым.
Затем последовала еще целая вереница их сиятельств и превосходительств, которым, кому поболее, кому поменее, уделила внимание Сент-Ирмаи; но люди уже всё такие: мелькнут да исчезнут, наподобие комет.
Дальше пошли их благородия и просто судари – народ, само собой, степенный; юнцов ведь такими титулами не очень баловали в прежние времена.
Ох уж эти судари, самое негордое тогдашнее сословие; уж им-то не приходило в голову сердиться, если с ними не соблюдут этикета. Люди славные, достойные, всех они выслушивали, со всеми соглашались, чинов-званий ничьих не забывали и собственными были довольны, шутки понимали и охотно отвечали шуткой; мин важных не строили, когда кругом смеялись, и не пересмеивались, если другие в слух обратятся. Сословие, на котором ежедневная и еженедельная печать тридцать уже лет оттачивала свое оружие, на все лады разрисовывая косность его, консерватизм, затейливые чубуки и незатейливое курево; сословие, коего ни один романист не позабывал, ежели венгерского колорита да комизма хотел подпустить, и, что самое замечательное, эти же вот судари, чудаки-судейские, сами и покупали, читали их книги, ибо не покупай они их, то уж не знаю, для кого бы и упражнялся в благородном искусстве словосложенья наш мадьярский Геликон.
Теперь черед за самородками.
– О, этих я получше тебя знаю. Больше даже знаю о них, чем следовало бы.
– И наконец, львы светские. Их ты, наверно, тоже знаешь.
Карпати не потрудилась скрыть зевок.
– Это ответ на мои слова? – рассмеялась Сент-Ирмаи.
– Нет, только воспоминанье о весело проведенных часах.
– Сим приговором обсуждение мужчин завершается.
Фанни вдруг сделалась серьезной. Опять предстал перед ней ее идеал. Нет, значит, здесь его? Не суждено его больше увидеть? Или он тоже в списке, ведь сколько раз в Пожони гулял под руку с Яношем Карпати, значит, они знакомы и Флора просто случайно его упустила или причислила к тем, кто ни плох, ни хорош и упоминания недостоин. Но этого быть не может, за такой благородной наружностью столь же благородное сердце должно скрываться, в этих покоряюще ясных глазах может отражаться лишь чистая, прекрасная душа, да и все его черты выдают глазную мужскую добродетель: ум серьезный и возвышенный.
– А не пропустила ли ты кого? – полушутливо, полузастенчиво спросила она у Флоры.
– Как же, как же! – засмеялась та и, с детской резвостью схватив длинный список со стола и опершись о подушки кушетки, прикрылась им, наподобие лукаво поглядывающего амура. – Одно имя пропустила, и прелюбопытное. Не догадываешься, чье?
– Нет! – совсем побледнев, ответила Фанни.
– Ах, глупышка! Одного весьма примечательного, красивого и благородного молодого человека. Я, по крайней мере, прекрасней всех на свете его считаю и не знаю никого, кто бы его превосходил обаянием и душевным благородством. Едва увижу лицо, как и душа передо мной, – то и другое боготворю одинаково. Все еще не узнаешь?
Фанни покачала головой. Хотя нет, узнала, конечно, но опять лишь свой безымянный идеал, о ком думала в эту минуту, который тоже всех прекрасней и благородней.
– Обязательно, значит, надо тебе его назвать? – переспросила Флора с шутливой досадой.
– Да, да, – прошептала Фанни, пытаясь заглянуть в список, который подруга нарочно отводила от ее глаз.
– Сей муж славный и выдающийся – граф Рудольф Сент-Ирмаи, – с величайшей серьезностью прочла она наконец.
Фанни, вспыхнув, лишь ахнула тихонько. Ой, глупая какая, только сейчас ее шутку поняла; вот стыд, сама не сообразила, что одно это имя и могло остаться неназванным.
Флоре оставалось лишь обнять и поцеловать подругу, а той – постараться разделить ее веселое настроение и самой посмеяться над такой рассеянностью. Сердце ее вновь упало: приходилось, видно, распроститься с надеждой встретить когда-либо свой идеал.