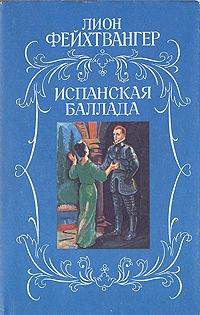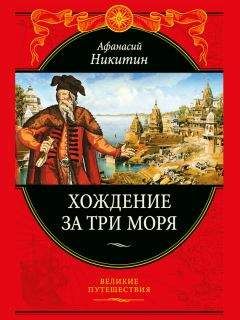Дон Альфонсо, сидя в небрежной, по-королевски величавой позе, слушал строгую, суровую речь посла. Его худощавое, словно выточенное из дерева лицо оставалось так невозмутимо, что можно было усомниться, доходит ли до него смысл арабских слов. Пожалуй, только чуть кривился узкий, длинный рот, обрамленный короткой рыжеватой бородой, и глубже врезались глубокие борозды на лбу. Но взгляд светлых глаз переходил от говорящего посла к собранию и все искал дона Родриго, и все искал дона Иегуду. «Болтай себе на здоровье, обрезанный, выговорись до конца, — думал он. — Лай, собака, лай сколько душе угодно, все равно вы со своим повелителем не посмеете укусить, вы будете отсиживаться у себя за морем, в Африке. Я решил набраться терпения, и я не выйду из себя, хотя твоя спесивая рожа так и просит пощечины. Но как только ты вернешься восвояси, я нападу на Кордову и Севилью, и сколько тогда ни лай, а кость достанется мне.».
Посол продолжал говорить. Повелитель правоверных на Западе, заявил он, считает нужным только напомнить его величеству королю Кастилии, известному своим благоразумием, что он, халиф, многое может простить, но никак не нарушение договора. Его величество король Кастилии вынес достаточно горький опыт из столкновения с одним лишь севильским войском; если же он вторично нападет на Севилью, ему придется иметь дело со всеми военными силами самого халифа. Если Кастилия разожжет огонь, ей потребуется пролить много слез, дабы загасить его.
По-прежнему внимательно слушая каждое слово, дон Альфонсо замечал все, что происходит в зале, он видел, как те оба, Родриго и Иегуда, все с большей тревогой, почти что с мольбой смотрят на него. Он видел нагрудный знак Иегуды, пластину с тремя башнями, и, удивляясь, что ему понятно каждое слово в изысканном арабском языке неверного, одновременно вспоминал золотые монеты, которые были отчеканены Иегудой ему, Альфонсо, на радость и внедрили его облик в самые дальние владения халифа. С первой же встречи был он связан с евреем, иногда на радость, иногда на горе. По теперь эти путы ему опостылели, ему не терпится сбросить их. Он видел глаза Иегуды, выразительные, молящие глаза, они напоминали глаза Ракели. «Все равно, это тебе не поможет, — думал он, — ты больше не будешь держать меня на привязи. Я не позволю твоему принцу Абуль Асбагу измываться надо мной, я сорвусь с привязи».
Когда принц кончил, наступила глубокая тишина. Тишину нарушил звучный голос Бертрана де Борна.
— Нечестивец осмеливается дерзить? — спросил он по-латыни.
Секретарь-кастилец почтительно приблизился к трону, чтобы перевести речь. Но Альфонсо отмахнулся от неё.
— Переводить нет надобности, — сказал он. — Я понял все и постараюсь дать такой ответ, чтобы господину послу тоже было все понятно.
Медленно выговаривая арабские слова и со злой насмешкой представляя себе, как удивится дон Родриго, что пребывание в Галиане помогло ему усовершенствоваться в арабском языке, он начал:
— Скажи своему повелителю халифу вот что: по заключению моих ученых советников, договор мой с Севильей перестал быть действительным с тех пор, как султан надругался над гробом нашего Спасителя и вынудил святого отца провозгласить священную войну. Тем не менее, я соблюдал перемирие. Ныне же дерзкие слова твоего повелителя окончательно сломали скреплявшие договор печати. — Он встал и, стоя во весь рост, молодой, полный отваги и величия, заговорил звенящим удалью голосом: — Передай халифу, пусть только переправится: на своих кораблях, со своими солдатами в Андалусию! На нашем полуострове ему придется сражаться не с дикими ордами мятежников, как там у себя, на восточной окраине. Здесь ему будут противостоять умудренные опытом воины божьей рати. Deus vult! — возгласил он, и архиепископ со всеми остальными зычно подхватили его возглас.
Светлые серые глаза Альфонсо метали молнии, что обычно устрашало многих и восхищало донью Леонор.
— А теперь убирайся прочь! — громовым голосом крикнул он принцу Абуль Асбагу. — Посольские права оградят тебя только два дня. Если до тех пор ты не переберешься через границу, пеняй на себя. И благодари бога, что за твои дерзкие речи я не велю вырвать тебе язык.
Посол побледнел, но быстро овладел собой. В сдержанных, исполненных достоинства выражениях он попросил, чтобы его величество соблаговолил изложить свой ответ письменно. Иначе повелитель правоверных может решить, что Аллах затмил у него, у посла, рассудок.
— Это одолжение я могу тебе сделать, — по-мальчишески смеясь, ответил Альфонсо.
Когда собравшиеся стали расходиться, он удержал дона Иегуду и приказал ему:
— Письмо напишешь ты, на самом чистом арабском языке. Только смотри, ничего не смягчай. Все равно я поймаю тебя с поличным. Ты, верно, заметил, что я и сам теперь неплохо говорю по-арабски. А рядом с моей печатью пусть будет твоя.
Дон Родриго лежал на своей жесткой кровати, измученный и удрученный скорбью, высосавшей из его тела последние силы. Его вина в том, что Альфонсо, точно расшалившийся ребенок, вдребезги разбил все, что с таким трудом было слажено в Бургосе. Если теперь халиф всей своей неимоверной военной мощью обрушится на Испанию, он, Родриго, будет повинен в этом. Ему не следовало полагаться на Манрике, он сам в нужную минуту должен был напрячь все силы и внушить королю благоразумие.
И помешали ему только слабоволие и трусость. С самого начала любовной связи Альфонсо и Ракели архиепископ неоднократно упрекал его за то, что он чужд того яростного негодования, которое столь часто звучит в словах пророков и отцов церкви. Дон Мартин корил его справедливо. На его, Родриго, сердце неотразимо действовало рыцарское, юношеское, царственное обаяние Альфонсо; он был снисходителен там, где не могло быть снисхождения и прощения. А последние недели он взвалил на себя бремя еще более тяжкой вины. В тайниках души он обрадовался, что король возобновил греховную жизнь в Галиане, понадеявшись, что этим будет еще отсрочено начало войны.
С горячим рвением молился он, чтобы на него снизошел благочестивый экстаз, бывший для него когда-то лучшим прибежищем. Он постился, предавался умерщвлению плоти. Запрещал себе ходить в кастильо Ибн Эзра, отказывал себе в беседах со своим мудрым другом Мусой. Однако господь не судил ему прощения. Благодать не осеняла его. Последняя услада была для него закрыта.
А теперь он из слабости позволил ввергнуть государство в бессмысленное кровопролитие. Ибо только из трусости не постарался он склонить короля к рассудительному ответу на обращение халифа. В беседе ему пришлось бы снова заговорить о том, что пора положить конец нечестивой любви к Ракели, а на это у него не хватало мужества.
Ни разу в жизни так жестоко не терзало каноника сознание вины. В голове у него звучали слова Абеляра: «То были дни, когда я познал, что значит — страдать; что значит стыдиться; что значит — отчаяться».
Он поднялся весь разбитый. Попытался отвлечься. Достал свою летопись, чтобы поработать над ней. Это была целая груда исписанного пергамента. Он наугад перечитывал один, другой лист. Увы, все, что он запечатлел здесь так усердно и любовно, казалось ему пустым и ненужным; он не видел никакого смысла в тех событиях, которые с таким трудом расставил по своим местам. Каким в корне ложным было его описание дона Альфонсо! И как же человек, неспособный познать даже то, что находится вблизи от него, дерзает обнаруживать перст божий в великих исторических событиях!
Он достал книгу, только что присланную ему из Франции и вызвавшую там много толков. Называлась она «Древо сражений», сочинил её Оноре Бонэ, настоятель монастыря в Селлонэ, и речь там шла о смысле войны, о её законах и обычаях.
Родриго читал. Да, настоятель из Селлонэ был честный, благомыслящий человек, твердый в вере. Опираясь на Священное писание, он подробно обсуждал и решительно определял, дозволено ли сражаться по пятницам, в каких случаях следует прикончить врага, в каких можно ограничиться его пленением, а также какой выкуп не зазорно христианину потребовать с другого доброго христианина.
Приор Бонэ на все давал ответ. Он храбро расправлялся с самыми каверзными задачами, решая их просто, прямолинейно и трезво.
Вот, например, что он отвечает на вопросы тех, кто сомневается, не наложен ли законом Божиим раз и навсегда запрет на войну. «Многие простые люди, пишет настоятель из Селлонэ, — почитают войну дурным делом, потому что во время войны по необходимости творится много зла, а господь возбраняет творить зло. А я говорю вам, что это вздор. Война не зло, а доброе и праведное дело; ибо война ищет обратить неправое в правое и замирить немирное, это же предписывает и Священное писание. Если же на войне свершается много зла, то исходит оно не от самого существа войны, а от нерадивости главенствующего, отчего бывает, к примеру, что воин творит насилие над женщиной или поджигает церковь. Причина тому отнюдь не в существе войны, а в нерадивости главенствующего. То же, например, относится и к правосудию, по существу коего судьям надлежит править суд с толком, в меру своего разумения. Если же судья вынесет неправый приговор, можем ли мы из-за этого сказать: правосудие само по себе — зло? Конечно же, нет. Зло исходит не от существа правосудия, а от неверного его применения, от дурного истолкования и от дурного судьи».