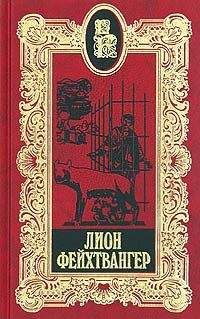Совершил ли Домициан преступление? Она не решалась ответить на этот вопрос. Она была в Байях, он в Риме, она не хотела его видеть, пока не избавится от своих сомнений, она не хотела сказать ему ни единого необдуманного слова, чтобы не лишить себя возможности твердо убедиться, виновен он или же невиновен. Если только он виновен, она отомстит за Маттафия.
Она получила от Домициана дружески сдержанное письмо. Домитилла, извещал он ее, уже долгое время не смущает покоя юных принцев. И потому, к своей радости, он в силах теперь исполнить желание Луции. Он поручил губернатору Восточной Испании объявить Домитилле о помиловании. Вскорости Луция сможет вновь приветствовать свою подругу в Риме.
Луция облегченно вздохнула. Она радовалась, что сгоряча не обвинила Фузана в убийстве Маттафия.
Две недели спустя секретарь, во время утреннего доклада о последних новостях, сообщил ей, что принцесса Домитилла погибла самым прискорбным образом. На своем острове она проповедовала Евангелие некоего распятого Христа – в согласии со взглядами минеев, одной из иудейских сект. В основном ее проповедь была обращена к аборигенам острова, а это полудикие иберийцы, чьи обиталища напоминают скорее звериные норы, нежели человеческие жилища. Однажды, когда она со своей служанкой возвращалась из какого-то иберийского поселения, шайка разбойного сброда подкараулила обеих женщин, напала на них, ограбила и убила, Это случилось, когда губернатор Восточной Испании уже отправил нарочного, чтобы известить ссыльную принцессу о помиловании. Император приказал: из племени, к которому принадлежат убийцы, каждого десятого распять на кресте.
Когда Луция услышала эту новость, ее ясное, смелое лицо потемнело; две глубокие поперечные морщины разрезали ее детский лоб, щеки пошли пятнами от гнева. Она прервала секретаря на полуслове. Без отлагательств отдала распоряжение готовиться к отъезду.
Она еще не знала, что будет делать. Знала только, что бросит прямо в лицо Домициану всю свою ярость. Как бы часто она им ни возмущалась, в ней всегда было что-то похожее на уважение к его бешеной, суровой натуре, никогда не угасала до конца любовь, которую некогда зажгло в Луции то неповторимое, что чувствовалось в нем, – его гордость, его сила, его одержимость. Теперь же она видела в нем одно лишь зло, только хищного зверя. Несомненно, это он убил Домитиллу, потому что обещал ей помилование, несомненно, это его неумолимые когти настигли мальчика – юного, сияющего, невинного. О да, у него снова найдется много высоких и гордых слов в свое оправдание! Но на этот раз он не одурманит ее своими речами. Он расправился с мальчиком за то доброе, что в нем было, просто за то, что мальчик был таким, каким он был, а может, только за то, что он, мальчик, полюбился ей, Луции. И Домитиллу он убил только для того, чтобы сделать больно ей, Луции, – так злой ребенок ломает игрушку, которая доставляет радость другому. Она выскажет ему все прямо в лицо; а если не выскажет, то подавится невыговоренным словом. Всю свою ярость, все свое отвращение бросит она ему в лицо.
Без отлагательств она выезжает в Рим.
Во время разговора с Иосифом Домициан испытывал чувство глубокого удовлетворения. И позже, когда Иосиф отверг его замысел устроить мальчику пышное погребение, он только усмехнулся. Дерзость Иосифа его не обидела; она лишь подтвердила, что он действительно ударил противника в самое уязвимое место. А когда затем Клавдий Регин передал ему дерзкую просьбу Иосифа, это было, пожалуй, вершиною его триумфа. Ибо теперь, сверх всего прочего, он мог проявить свое великодушие и показать, что не против бога Ягве были направлены его действия. Преступление мальчика Маттафия императору Домициану пришлось покарать; любимцу бога Ягве он оказывает высочайшие почести. И он усмехнулся многозначительной, радостной и недоброй усмешкой, когда узнал, что из всех быстроходных кораблей императорского флота к выходу в море готов именно «Мститель», что «Мститель» доставит Иосифа и его мертвого сына в Иудею. Плыви, Иосиф, мой еврей, уплывай на моем славном, быстром судне. Попутного ветра тебе и твоему сыну, плыви, уплывай! Каталина бежал, скрылся, исчез.[114]
Но чем дальше убегал враг, чем дальше от Рима была либурна «Мститель», уносившая на своей палубе мертвого и живого, тем быстрее угасала радость императора. Он сделался непривычно вял, инертен. Даже короткий переезд в Альбан вызывал в нем отвращение, он оставался в жарком Риме.
Мало-помалу возвращались прежние сомнения. Конечно, он поступил правильно, убрав с дороги Маттафия Флавия, – мальчик совершил государственную измену, и он, император, не только имел право, но был обязан его казнить. Но его противник, бог Ягве, – хитроумный, коварный бог. Человеческий ум против него бессилен. Он все равно сочтет себя оскорбленным тем, что римлянин похитил его Давидова отпрыска, его избранника. У Домициана много сильных доводов в свою защиту. Но захочет ли враждебный бог их принять? А ведь каждый знает, какой мстительный этот бог Ягве, и какой грозный, и как внезапно разит его рука.
В чем может упрекнуть его этот бог Ягве? Любимец Ягве, посланец Ягве – Иосиф – в присутствии целого Рима нагло бросил ему в лицо свою гнусную оду о мужестве. Тот же эмиссар Ягве завязал дружеские отношения с Луцией и тем провокационно заставил ее придать в глазах людей особую значительность ему самому и его миссии. Но не желание отомстить этим двоим побудило его, Домициана, убрать с дороги Маттафия. Он не хотел наносить удар этим двоим. То, что ему все же пришлось нанести им удар, – обыкновенная случайность, одна из тех, какими сопровождается исполнение священного долга, к сожалению, возложенного на него богами. Нет, он не питал злобы ни к Иосифу, ни к Луции; скорее напротив, он испытывал прямо-таки дружеские чувства к обоим. Это не он принес им несчастье – это сделали боги, а он, их друг, он искренне желал их утешить.
Однако затаенное чувство вины не покидает его, и, по своему обыкновению, он пытается переложить эту вину на кого-нибудь другого. С чего все началось? С того, что Норбан представил ему двух потомков Давида. Он сделал это с определенною целью. Император не знал, какие намерения преследовал Норбан, но одно было совершенно неоспоримо: Норбан намеренно вложил ему в руки первое звено цепи, последним звеном которой оказалась смерть мальчика Маттафия. Так что если и есть тут чья-то вина, так это вина Норбана.
Правда, доводить свою мысль до конца или делать из нее выводы Домициан остерегался. Когда он сидел, склонившись над навощенною табличкой, и думал о своем министре полиции, на табличке ни разу не появлялись буквы или слова, а неизменно только круги и завитки, и эти круги и завитки отвечали мыслям императора. Но когда он говорил о Норбане – с другими или же с самим собой, – то неизменно повторял: мой Норбан – вернейший из верных.
Незадолго до того, как Луция прибыла во дворец, Домициан заперся у себя в кабинете, приказав, чтобы его не беспокоили. Но Луция так настоятельно требовала допустить ее к императору немедленно, что гофмаршал Ксанфий в конце концов о ней доложил. Он ждал со страхом, что император вспыхнет гневом, но тот остался спокоен и, по-видимому, даже обрадовался встрече с супругой.
Конечно, Домициан опасался, что Луция догадается об истинных обстоятельствах гибели Маттафия и смерти Домитиллы. Но его Норбан еще раз доказал свою преданность, он поработал на славу: наготове были безупречные свидетельские показания, подтверждающие как несчастную случайность, которая стоила Маттафию жизни, так равно и убийство Домитиллы иберийскими троглодитами. И если Домициан мог оправдать себя в глазах людей, тем легче было оправдаться в собственных глазах. Маттафий, бесспорно, повинен в государственной измене, а убрать Домитиллу – в особенности после того изменнического письма – было необходимо, если он в самом деле печется о душах мальчиков.
И все же, едва только к нему ворвалась Луция, рослая, взбешенная, негодующая не только всею душой, но даже каждой складкой своей одежды, вся его уверенность исчезла без следа. Всякий раз ощущал он свое бессилие перед этой женщиной, вот и сегодня вся непоколебимость заранее припасенных доводов растаяла, как воск. Но эта слабость длилась лишь какую-то долю мгновения. В следующий миг он уже снова был прежним Домицианом, и в мягких, учтивых словах выражал свою скорбь, сетуя на судьбу, отнявшую у него и у нее двух друзей. Но Луция не дала ему договорить.
– У этой судьбы, – мрачно сказала она, – есть имя. Ее зовут Домициан. Не надо, не лгите, молчите! Вы не у себя в сенате. Не пытайтесь оправдываться! Оправданий не существует. Я вам не верю – ни единой вашей фразе, ни единому слову, ни единому дыханию. Самому себе вы еще можете врать, мне – нет! А на сей раз вы не в силах одурачить даже самого себя. Вы поступили как трус, подлый и низкий трус! Мальчик понравился вам – но именно за это вы его и убили! Потому что даже вы видели, как он невинен и сколько в нем чистоты, и потому что вы не в силах терпеть ничего чистого рядом с собою! Это была мелкая ревность, и ничего больше. А Домитилла! Ведь вы сами говорили, что она не сделала вам ничего дурного. Какая же у вас грязная душа! Не подходите ко мне, не прикасайтесь! Я самой себе противна, когда думаю о том, что лежала рядом с вами в постели.