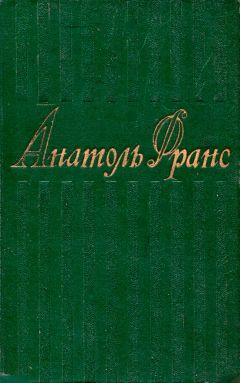В первый же четверг мая я направился к мадемуазель Префер, чье заведение мне указала еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характера мадемуазель Виргинии Префер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Оробелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодной приемной, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такою беспощадною старательностью, что я в унынии решил остаться у порога; но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными стульями, — и мне удалось, переступая с одного коврового островка на другой, добраться до камина, где я и сел, совсем запыхавшись.
На камине, в большой золоченой раме, стояла таблица с заголовком витиеватой «готикой»: Почетная доска, — но в числе многих имен, написанных на ней, я не имел удовольствия встретить имя Жанны Александр. Перечитав несколько раз имена учениц, заслуживших похвалу мадемуазель Префер, я забеспокоился, не слыша никаких шагов. В своих педагогических владеньях мадемуазель Префер, наверное, достигла бы абсолютной тишины небесных сфер, если бы не бесчисленные стаи воробьев, облюбовавших ее двор как место сбора, чтобы там чирикать сколько влезет. Приятно было слышать их. Но скажите на милость, как их увидеть сквозь матовые стекла? Приходилось ограничивать себя зрелищем приемной, украшенной по всем четырем стенам сверху донизу рисунками пансионерок. Здесь были хижины, цветы, весталки, капители, завитки и непомерная голова сабинского царя Тация, подписанная: «Этель Мутон».
Довольно долго я дивился той энергии, с какою выделила мадемуазель Мутон чащу бровей и свирепые очи древнего воителя, но вдруг слабый шорох, слабее шороха опавшего листка, скользящего по ветру, заставил меня обернуться. Правда, это был не опавший лист, а… мадемуазель Префер. Сложив руки, она скользила по зеркальной поверхности паркета, как некогда святые девы Златой легенды по хрустальной глади вод. Но при других условиях мадемуазель Префер, я думаю, не вызвала бы у меня представления о девах, любезных душе мистика. Лицом она напомнила мне яблоко, хранившееся всю зиму на чердаке запасливой хозяйки. Накинутая на плечи пелерина с бахромой сама собой не представляла ничего особенного, но мадемуазель Префер ее носила так, словно то была священная одежда или знак отличия высоких должностей.
Я объяснил цель своего визита и вручил ей разрешение.
— Вы виделись с господином Мушем? — сказала она. — Он в добром здравии? Это такой почтенный человек, такой…
Она не кончила и устремила взор к потолку. Мой взор направился вслед и натолкнулся на бумажную спиральку в виде кружев, подвешенную на месте люстры и, по моим соображениям, предназначенную приманивать мух, а тем самым отвлекать их от золоченых рам почетной доски и зеркала.
— Встретившись с мадемуазель Александр у госпожи де Габри, — сказал я, — я имел возможность оценить прекрасный характер и живой ум этой девушки. Когда-то я был знаком с ее дедом и бабкой и склонен ту симпатию, какую внушали они мне, перенести и на нее.
Вместо ответа мадемуазель Префер, глубоко вздохнув, прижала к сердцу таинственную пелерину и снова углубилась в созерцание бумажной спирали.
Наконец она сказала:
— Если вы знали супругов Ноэль-Александр, то мне хочется думать, что вы, так же как я и господин Муш, горько сожалеете о безумных спекуляциях, которые довели их до разорения, а дочь — до нищеты.
При этих словах я подумал, что быть несчастным — великий грех и что его не прощают тем, кто долго был предметом зависти. Их падение и мстит за нас и льстит нам, а мы безжалостны.
Я признался наставнице со всею откровенностью, что совершенно чужд финансовым делам, и спросил, довольна ли она мадемуазель Александр.
— Это ребенок без узды! — воскликнула мадемуазель Префер.
И она приняла позу, указанную высшей школой верховой езды, изображая символически то положение, какое создает ей ученица, так трудно поддающаяся дрессировке; затем, вернувшись к чувствам более спокойным, продолжала:
— Девочка не глупа. Но не может заставить себя приобретать знания на основе нравственных принципов.
Что за странная особа эта мадемуазель Префер! Ходит она, не поднимая ног, а говорит, не двигая губами. Не задерживая своего внимания на этих особенностях, я ответил, что, конечно, принципы — вещь отличная, и в этом отношении я полагаюсь на ее просвещенность, но в конечном счете раз человек усвоил знание чего-либо, не все ли равно, каким путем он этого достиг.
Мадемуазель Префер тихо покачала головой. Затем, вздохнув, сказала:
— Ах, господин Бонар, люди, чуждые делу воспитания, имеют о нем весьма ложные понятия. Я верю, что говорят они с самыми добрыми намерениями, но они поступили бы лучше, гораздо лучше, когда бы положились в этом на компетентных лиц.
Я не упорствовал и спросил ее, могу ли я теперь же увидеть мадемуазель Александр.
Она рассматривала пелеринку, словно отыскивая в сплетеньях бахромы, как в книге для гаданий, нужный ей ответ, и, наконец, сказала:
— Мадемуазель Александр сейчас будет репетировать других. Здесь старшие учат младших. Это называется взаимным обучением… Но я бы очень сожалела, если бы вы обеспокоили себя напрасно. Я велю ее позвать. Разрешите только, для порядка, вписать ваше имя в книгу посетителей.
Она села к столу, раскрыла толстую тетрадь и, вытащив из-под пелерины письмо мэтра Муша, которое она туда засунула, начала писать, спросив:
— Бонар, одно «р», не правда ли? Простите, что останавливаюсь на этой подробности. Но мое мнение, что у собственных имен своя орфография. Здесь пишут диктанты на имена собственные… имена исторические, разумеется.
Вписав ловкою рукою мое имя, она спросила, не может ли к нему прибавить какое-нибудь звание, вроде — бывший коммерсант, чиновник, рантье или что-либо подобное. В ее списке имелась графа для званий.
— Боже мой! Уж если вы, мадемуазель, хотите непременно заполнить эту графу, поставьте: академик.
Я видел перед собой все ту же пелеринку мадемуазель Префер, но той мадемуазель Префер, которая была в нее одета, вдруг не стало. Это была другая личность — приветливая, ласковая, милая, сияющая счастьем. Глаза ее улыбались, улыбались и морщинки на лице (в большом количестве), улыбался рот, но лишь одним углом. Она заговорила: голос был под стать ее виду — он сделался медовый:
— Так вы сказали, что наша милая Жанна очень умна? Я это сама заметила и горжусь тем, что наши мнения сошлись. Эта девица внушает мне поистине большой интерес. Правда, она немного резва, но у нее есть то, что я зову счастливым характером. Впрочем, извините, что я злоупотребляю вашим драгоценным временем.
Она позвонила, вошла служанка, больше прежнего растерянная и оробелая, и затем исчезла, получив распоряжение уведомить мадемуазель Александр, что г-н Бонар, академик, ждет ее в приемной.
Мадемуазель Префер едва успела мне признаться, что проникнута глубоким уважением ко всем без исключения постановлениям Академии, как вошла Жанна, — запыхавшись, красная, словно пион, широко раскрыв глаза и болтая руками, — очаровательная в своей наивной угловатости.
— В каком вы виде, милое дитя! — с материнской нежностью посетовала мадемуазель Префер, оправляя ей воротничок.
Действительно, вид у Жанны был довольно чудной. Волосы, зачесанные назад, выбивались из-под сетки; худые руки, запрятанные до локтей в люстриновые рукава, красные, обмороженные кисти рук, видимо стеснявшие ее; чересчур короткое платье, не закрывавшее слишком широких чулок и стоптанных ботинок; веревочка для прыганья, завязанная вместо пояса вокруг талии, — все это делало Жанну девицей мало представительной.
— Баловница! — вздохнула мадемуазель Префер, на этот раз приняв вид уже не матери, а старшей сестры.
Затем она исчезла, скользя по паркету, точно призрак.
Я обратился к Жанне:
— Сядьте, Жанна, и поговорите со мной как с другом. Вам здесь не нравится?
Она замялась, потом с покорной улыбкой ответила:
— Не очень.
Держа в руках концы веревочки, она молчала. Я спросил ее, неужели она, такая большая, все еще прыгает через веревочку.
— О нет! — торопливо ответила она. — Когда служанка сказала, что меня ждет какой-то господин, я учила малышей прыгать. А веревочку я обвязала вокруг талии, чтобы не потерять. Это неприлично. Извините меня, пожалуйста. Но я так не привыкла принимать посетителей!
— Боже праведный! Почему ваша веревочка могла бы оскорбить меня? Монахини ордена святой Клары подпоясывались веревкой, а это были святые девы.
— Вы очень добры, что пришли меня проведать и говорите со мною так. Я забыла поблагодарить вас, когда вошла, но я уж очень была удивлена. Давно ли вы видели мадам де Габри? Будьте так добры, расскажите мне о ней.