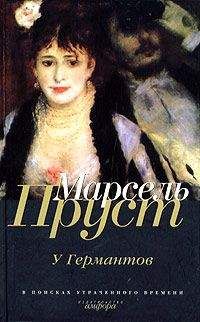«Вид у нее плохой плательщицы, — подумала «маркиза». — Она для меня не подходящая, нет у нее опрятности, нет уважения, и мне пришлось бы целый час мыть и чистить ради этой особы. Нет, я не жалею о ее двух су».
Наконец бабушка вышла; не будучи уверен, что она попытается загладить чаевыми неделикатность, которую она проявила, оставаясь так долго в кабинке, я поспешил ретироваться, чтобы не получить и на свою долю презрения, которое несомненно засвидетельствует бабушке «маркиза», и углубился в аллею, но медленно, чтобы бабушка без труда могла догнать меня и идти вместе со мной. Это вскоре и случилось. Я думал, что бабушка тотчас мне скажет: «Я заставила тебя ждать, надеюсь все же, что ты не упустишь твоих приятелей», — но она не произнесла ни слова, так что, немного разочарованный, я не пожелал заговаривать с ней первый; наконец, подняв на нее глаза, я увидел, что, идя со мной рядом, она старательно отворачивается от меня. Я боялся, что ее все еще тошнит. Присмотревшись к ней внимательнее, я был поражен ее дергающейся походкой. Шляпа сидела на ней криво, пальто испачкалось, весь вид был растерзанный и недовольный, лицо красное и озабоченное, как у человека, только что помятого экипажем или вытащенного из канавы.
— Я испугался, не тошнит ли тебя, бабушка; тебе лучше? — обратился к ней я.
Должно быть, она подумала, что ей нельзя, не встревожив меня, оставить мои слова без ответа.
— Я слышала весь разговор между «маркизой» и сторожем, — сказала она. — Ни дать ни взять Германт и кружок Вердюренов. Боже, в каких галантных выражениях изложены были эти вещи! — И она прибавила применительно к этому еще следующие слова ее собственной маркизы, г-жи де Севинье: — «Слушая их, я думала, что они мне подготовляют сладостное прощание».
Вот с какими словами обратилась ко мне бабушка, словами, в которые она вложила все свое тонкое остроумие, свой вкус к цитатам, свою память на классиков, даже в несколько большей степени, чем она это делала обыкновенно, как бы для того, чтобы показать, что все это прекрасно сохраняется в ее распоряжении. Но фразы эти я скорее угадал, чем расслышал, настолько невнятно произнесла она их, сжимая зубы сильнее, чем этого требовал бы страх рвоты.
— Вот что, — сказал я ей довольно беззаботно, чтобы не создавать впечатления, что меня встревожило ее недомогание, — так как у тебя легкая тошнота, то не лучше ли нам вернуться домой, я не хочу вести гулять на Елисейские Поля бабушку, у которой расстроен желудок.
— Я не решалась тебе это предложить, потому что ты условился встретиться с приятелями, — отвечала она. — Бедный мальчик! Но если ты так желаешь, это будет благоразумнее.
Я испугался, как бы она не заметила манеры, которой были произнесены эти слова.
— Послушай, — сказал я вдруг, — не утомляй себя разговором; если тебя тошнит, то это нелепо, подожди по крайней мере, когда мы вернемся домой.
Она печально мне улыбнулась и пожала руку. Она поняла, что нечего скрывать от меня то, о чем я сразу догадался: что с ней только что случился небольшой удар.
Болезнь бабушки. Болезнь Бергота. Герцог и доктор. Агония бабушки. Ее смерть.Мы снова перешли авеню Габриэль, наполненную толпой гуляющих. Я усадил бабушку на скамейку и отправился за фиакром. Бабушка, в сердце которой я всегда мысленно помещал себя, составляя суждение даже о самом незначительном человеке, — бабушка была теперь для меня недоступна, она сделалась частью внешнего мира, и больше, чем от простых прохожих, я вынужден был скрывать от нее то, что я думал о ее состоянии, скрывать от нее мое беспокойство. Я не мог бы ей сказать об этом с большим доверием, чем посторонней женщине. Она только что вернула мне мысли и горести, которые я с самого детства вверил ей навсегда. Она не была еще покойницей. Я был уже один. И даже сделанные ею намеки на Германтов, на Мольера, на наши разговоры о кружке Вердюренов приобретали вид беспочвенный, беспричинный, фантастический, потому что исходили из небытия этого самого существа, которое завтра, может быть, не будет больше существовать, для которого они не будут больше иметь никакого смысла, из небытия — неспособного их постичь — которым станет вскоре бабушка.
— Мосье, я не отказываюсь, но вы не условились о свидании со мной, у вас нет номера. К тому же, сегодня у меня не приемный день. У вас наверно есть свой врач. Я не могу его заместить, разве только он пригласит меня на консультацию. Это вопрос врачебной этики…
В то мгновение, когда я давал знак фиакру, я встретил знаменитого профессора Е., довольно близкого друга моих отца и деда, во всяком случае их хорошего знакомого, проживавшего на авеню Габриэль, и, осененный внезапной мыслью, я его остановил на самом пороге его дома, вообразив, что он даст, может быть, благодетельный совет бабушке. Но он торопился и, захватив свои письма, хотел меня выпроводить, так что я мог заговорить с профессором, только войдя с ним в лифт, где он тотчас попросил меня предоставить ему распоряжаться кнопками: это была его мания.
— Но я вас не прошу, мосье, принять бабушку, вы потом поймете то, что я хочу вам сказать, она в неподходящем состоянии, я прошу вас, напротив, приехать через — полчаса к нам, когда она вернется домой.
— Приехать к вам? Об этом, мосье, нечего и думать. Я обедаю у министра торговли, перед этим мне необходимо сделать один визит, сейчас я буду переодеваться, в довершение несчастья мой фрак разорвался, а в другом нет петлицы, чтобы прикрепить ордена. Прошу вас, сделайте мне удовольствие, не прикасайтесь к кнопкам лифта. Вы не умеете с ними обращаться, надо всегда быть осмотрительным. Эта петлица задержит меня. Словом, из дружбы к вашим, если ваша бабушка сейчас зайдет ко мне, я ее приму. Но предупреждаю вас, что я могу предоставить ей ровно четверть часа.
Я тотчас же отправился за бабушкой, даже не выйдя из лифта, который профессор Е. сам пустил вниз, недоверчиво глядя на меня.
Мы часто говорим о неизвестности часа смерти, но, когда мы это говорим, мы представляем себе этот час расположенным где-то далеко в пространстве, мы не думаем, чтобы он находился в каком-нибудь отношении к уже начавшемуся дню и мог означать, что смерть — или ее первая хватка, после которой она нас уже не выпустит, — может случиться сегодня же после полудня, в этот так хорошо известный период времени, каждый час которого нами заранее распределен. Мы считаем необходимым сделать прогулку, чтобы запастись на месяц порцией свежего воздуха, мы колебались относительно выбора пальто и фиакра, мы в фиакре, день весь целиком перед нами, короткий, так как мы желаем вернуться во-время, чтобы принять нашу приятельницу; нам хочется, чтобы и завтра была такая же хорошая погода; мы и не подозреваем, что смерть, совершавшая свой путь в нас где-то в другой плоскости, объятая непроницаемой тьмой, выбрала именно этот день, чтобы выйти на сцену через несколько минут, почти в то самое мгновение, когда экипаж подъедет к Елисейским Полям. Может быть тот, кто думает обыкновенно с ужасом о таком из ряда вон выходящем явлении, как смерть, найдет нечто успокоительное в подобного рода смерти — в подобного рода первом соприкосновении со смертью, — потому что она появляется в знакомом, привычном и будничном облике. Ей предшествовал хороший завтрак и небольшая прогулка, которую делают люди, хорошо себя чувствующие. Возвращение в открытом экипаже переплетается с ее первой хваткой; как ни плохо было состояние бабушки, все же несколько человек могли бы сказать, что в шесть часов, когда мы возвращались с Елисейских Полей, они поклонились бабушке, проезжавшей в открытом экипаже, и что погода была великолепная. Легранден, направлявшийся к площади Согласия, снял перед нами шляпу и остановился с удивленным видом. Я еще не оторвался от жизни и потому спросил бабушку, ответила ли она ему, напомнив ей, как он обидчив. Бабушка, найдя меня, вероятно, крайне легкомысленным, подняла руку в воздух, как бы желая сказать: «К чему все это? Это не имеет никакого значения».
Да, прохожие могли бы сказать несколько минут назад, когда я искал фиакр, что бабушка сидела на скамейке, на авеню Габриэль, что немного спустя она проехала в открытом экипаже. Но было ли это правда? Скамейка, для того чтобы стоять на аллее — хотя и она подчинена некоторым условиям равновесия — не нуждается во внутренней энергии. Но чтобы живое существо было устойчиво, даже сидя на скамейке или в экипаже, от него требуется напряжение сил, которых мы обыкновенно не воспринимаем, как не воспринимаем (оттого что оно действует во всех направлениях) атмосферного давления. Может быть, если бы в нас создали пустоту и предоставили нам в таком виде подвергнуться давлению воздуха, мы бы почувствовали в течение мгновения, предшествующего нашей гибели, страшную тяжесть, которой ничто бы уже не парализовало. Точно так же, когда в нас отверзаются бездны болезни и смерти и когда мы уже ничего не можем противопоставить натиску, с которым мир и наше собственное тело бросаются на нас, — тогда выносить даже нажим наших мускулов, даже озноб, пожирающий наши внутренности, — тогда даже держаться неподвижно в положении, которое мы считаем обыкновенно чисто пассивным, мы можем, если хотим, чтобы голова наша не клонилась и взгляд оставался спокойным, только ценой затраты жизненной энергии, ценой изнурительной борьбы.