Знали его все, потому что его через день пел по радио Гоза{109}, и перед исполнением диктор каждый раз объявлял: «Сейчас вы услышите новый шедевр молодого композитора Палки».
Ландик напевал мотивчик себе под нос и под конец громко выкрикивал: «Гав, гав!»
На этот рефрен отзывались коллеги из двух соседних комнат. Посторонний мог вообразить, что попал на псарню. Но, конечно, не старый курьер Глячко, который как раз принес свежие газеты. После вежливого приветствия «Мое почтение, пан комиссар!» он тотчас же присоединился к собачьему концерту, заворчал и залился яростным, визгливым лаем.
— Молодец, старина, — Ландик погладил Глячко, как верного пса, — здорово лаете!
Глячко, ворча, положил газеты и отошел, пролаяв еще несколько раз на прощанье, как собака, которая никак не может успокоиться.
Ландику вменили ex offo[23] — просматривать газеты национального, клерикального, социалистического и крестьянского направления.
Он принялся за те, что лежат сверху.
Передовая статья «Червеной справодливости» сразу привлекла его внимание.
Устроившись за столом поудобнее, он читал с синим карандашом в руке.
«…Первая забота окружных начальников — собственная выгода. Муку выдают плохую. Прибыль прикарманивают власти краевого масштаба, извлекая для себя еще и политическую пользу. Чиновники подкуплены, они единодушно поддерживают темные махинации еврейских, людацких и аграрных спекулянтов, за которыми стоят подкупленные окружные начальники… Наживаются на государственных продовольственных пайках, на бесплатном хлебе, муке, картошке, угле для безработных. В Словакии это используется как средство агитации. Идут в ход продовольственные карточки в деревнях, молочные пайки для детей, инвестиции, монополия на хлеб…»[24]
— Гав, гав! — залаял Ландик на статью и хлопнул газетой о стол. Он так рассердился, что, не будь газета казенной, он смял бы ее, растоптал. «Лаять и ты умеешь, — злился он. — Обвиняет весь административный аппарат, — в нем заговорило чувство коллегиальности, — но, конечно, только словацкий! В Чехии, Моравии, Силезии — «nic», там «všechno je v nejlepším pořádku»[25], — взбунтовался в Ландике патриот. — Естественно, кто виноват, как не аграрная партия с евреями и людаками, — оскорбился в нем аграрий… — За это на газету подадут в суд… Я бы этого редактора засадил лет на пять в тюрьму… Вот свинья! Знает ведь, что это правительственное решение, что делят пайки комиссии, а в комиссии каждая партия сует нос — надо ж им и свои дела как-то решать!»
Но газета была казенная, и служебный долг обязывал. Ландик вырезал статью, наклеил на желтую оберточную бумагу, надписал сверху название газеты и прихлопнул рукой, чтобы лучше приклеилось. Жаль, что это не голова редактора! Он хлопнул бы посильнее!
— Ну, а этот на что лает? — Ландик взял «Боевник» — орган радикальной патриотической партии.
Будь его воля, он закрыл бы все политические газеты на время предвыборной кампании. Или, во всяком случае, решительно запретил бы писать о выборах, ну а если уж писать, то сообщать лишь официальные сведения: какие партии участвуют, кого выдвигают. Вообще выборы следовало бы проводить государственным учреждениям, как чисто административный акт. Нотариаты в обязательном порядке разъясняли бы программы разных партий, и — выбирайте, какая вам больше подходит.
— А если этих программ больше, чем ученых статей в «Братиславе»?{110} — возразил комиссар Дурдик. — Простому народу не разобраться.
— А во всевозможных списках партий он разберется?
— Они пронумерованы.
— Ну что скажут номера о программе партии? — воскликнул Ландик. — Куда нагляднее были бы краски.
— В спектре на все партии не хватит оттенков, — вмешался в разговор комиссар Лесковец.
— Выход нашелся бы, — не сдавался Ландик, — на свете разных цветочков не меньше, чем предвыборных программ. Избиратель приходил бы в избирательную комиссию с цветком в петлице, избирательницы прикалывали бы цветок к платью. Комиссия при виде зеленого клевера писала бы «аграрник», ведь аграрник хочет, чтоб кругом все цвело и зеленело; при виде красной гвоздики — «социал-демократ», ибо он символизирует зарю, а заря — красная; львиный зев — «промышленник», потому что промышленник на все разевает пасть; белая роза — «католик-людак», роза — знак девственности и непорочности; чертополох — «коммунист», его голой рукой не возьмешь; василек с диким маком — «радикал-патриот», это — цвета родины. Все устроилось бы правительственным распоряжением. И никаких науськиваний, никаких вербовщиков, никаких газет. Мы избежали бы больших расходов и всех неприятностей, которые несут выборы, устроили бы чудесный праздник цветов!
— Да ты поэт, — засмеялся Дурдик. — А кто соберет цветы?
— Откуда ты возьмешь кандидатов? — вмешался и комиссар Древеный.
— А тайное голосование? Все сразу увидели бы, кто за какую партию голосует. Нет, уж лучше бумажки, люди к ним привыкли! — выступил против цветочных выборов комиссар Грушка.
— Вы наивны, — у Ландика был готов ответ. — Наделали бы искусственных цветов. В государственной типографии открыли бы цветочное отделение. Избирателю вручают букет, и он выбирает себе цветок по вкусу. Каждая партия завела бы для своих кандидатов ранги, как у нас для чиновников в «Ведомостях служащих политического и полицейского управления в Словакии». Их квалифицировали бы и продвигали по службе, как чиновников. Низший класс отправился бы в деревню, средний — в округ, кто повыше — в краевые филиалы, еще выше — в палату депутатов, в сенат и обратно, ну, не считая палаты депутатов, где все должны быть духовно и физически крепкими, и так — в краевые органы, затем в округ, в деревню, а потом — пошел вон, на пенсию! Тайное голосование? При чем тут тайна? Все балаболят вслух, выбалтывают свои мысли, а вот на выборах почему-то надо скрытничать и выбирать бумажки в отдельной комнате; все равно газеты раззвонят, за кого голосовала та или иная деревня. Какой же староста не знает, за кого голосовали жители? А если тебя избрали, на первом же собрании ты вынужден признаться, какому полубогу служишь. Избранники не держат в тайне свои убеждения, почему их должны скрывать избиратели? Это ли равноправие? Не нужно никаких тайн!
— Сколько же нам придется тогда ждать своего места не только в канцелярии, но и в политической жизни? Лет пятнадцать? — нашелся нетерпеливый Губичек.
— Промежутки между выборами можно сократить до двух лет, — разрешил вопрос Ландик.
— Только перескакивать через других не разрешалось бы, — продолжал Губичек.
— Это было бы исключено, — успокоили его.
Затем разговор, как водится, перешел на иные, более животрепещущие, понятные и близкие темы, например, что в «Эксельсиоре» можно победить за шесть крон.
Если бы редактор «Червеной справодливости» присутствовал в канцелярии и Ландик при нем развивал бы свои взгляды на избирательную реформу, трудно сказать, кто бы стучал кулаком по статье и чья голова трещала бы — редактора или Ландика?
На счастье, в управлении не было ни одного журналиста, хотя обыкновенно они там вечно толкутся, и о замысле фашистского путча, направленного против демократии, написать было некому.
Ландик недолго читал «Боевник». В кабинет вошли. Но не газетчик, а Микеска с рюкзаком за спиной.
Он был в берете, брюках гольф и тяжелых башмаках — «батёвках» с узорчатым язычком. На толстые лодыжки поверх собравшихся складками, плохо завязанных кальсон были натянуты серые, забрызганные грязью чулки. Из верхнего бокового кармана короткой кожаной куртки нараспашку, как всегда, торчали три авторучки, из нижнего — сельскохозяйственная газета «Видек». Под курткой на Микеске была зеленая вязаная безрукавка.
Ландик не сразу узнал его, а только когда Микеска снял берет и тряхнул головой, чтобы откинуть назад растрепанные волосы.
— Ба, пан секретарь!
Микеска сбросил рюкзак, толкнул его ногой к стенке и грустно ответил:
— Не знаю, уж не бывший ли…
— Что случилось?
— А-а, — махнул Микеска рукой, — я предложил Розвалида в кандидаты, а председатель разгневался. На собрании.
— Из-за Розвалида я бы не стал рисковать. Он мне вексель опротестовал.
— Чей надо — не опротестовал, чей не надо — опротестовал. — Секретарь сел, и в горле у него что-то забулькало. — Стрелялся он.
И Микеска поведал историю о политическом векселе и о господской любви, которая держится на заячьем хвосте, на страхе перед народом. Ландик слушал. Знакомое, страшное слово — банкротство. Он слышал его давным-давно, когда еще ходил в гимназию. Ландик вспомнил об отце, который тоже дохозяйничался и пострадал из-за выборов и «политических векселей», которые народ должен был оплатить и не оплатил. Отец все же побывал в депутатах, и хотя до парламента не дотянул, ему кричали: «Ура Ландику» и пели:
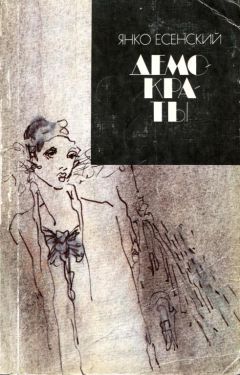

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


