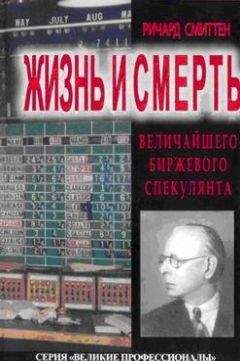Эйлин вспыхнула.
— Нет, это уж слишком! Да, да, можешь быть уверен, я сделала это потому, что так хотела, а ты здесь совершенно ни при чем. Да как ты смеешь допрашивать меня после того, как годами пренебрегал мною! — Она оттолкнула тарелку и хотела встать из-за стола.
— Обожди минутку, Эйлин, — сказал Каупервуд спокойно, кладя вилку и глядя на нее в упор через разделявший их стол, уставленный севрским фарфором, цветами, фруктами в хрустальных и серебряных вазах и залитый мягким светом затененной шелковым абажуром лампы. — Зачем ты так говоришь со мной? Я надеюсь, ты не считаешь меня мелким, тупым ревнивцем? Как бы ты ни поступала, я не намерен ссориться с тобой. Я ведь знаю, что с тобой происходит, знаю, почему ты себя так ведешь и каково тебе будет потом, если ты пойдешь по этому пути. Дело не во мне, дело в тебе самой… — Он умолк, ему внезапно стало жаль ее.
— Ах, вот как, дело не в тебе? — вызывающе повторила она, борясь с охватившим ее волнением. Его тихий, мягкий голос пробудил в ней воспоминания прошлого. — Ну, а я не нуждаюсь в твоем милосердии. Я не хочу, чтобы ты меня жалел. Я буду поступать так, как найду нужным. И лучше бы уж ты совсем не говорил со мной.
Эйлин отшвырнула тарелку, опрокинув бокал с шампанским, которое желтоватым пятном разлилось по белоснежной скатерти, вскочила и бросилась вон из комнаты. Гнев, боль, стыд, раскаяние душили ее.
— Эйлин! — Каупервуд поспешил за нею следом, не обращая внимания на дворецкого, привлеченного в столовую шумом отодвигаемых стульев (семейные сцены в доме Каупервудов были ему не в диковинку). — Послушай меня. Эйлин! Это же месть, а ты жаждешь любви, не мести; ты хочешь, чтобы тебя любили, любили беззаветно. Я все понимаю. Прости меня и не суди слишком строго, как я не сужу тебя.
Они вышли в соседнюю комнату, и он схватил Эйлин за руку, пытаясь удержать ее. Эйлин почти не понимала, что он говорит, она была вне себя от обиды и горя.
— Оставь меня! — выкрикнула она, и горькие слезы хлынули у нее из глаз.
— Оставь меня! Я не люблю тебя больше. Я ненавижу тебя! Понимаешь, ненавижу! — Она вырвала у него руку и, выпрямившись, стала перед ним. — Я не хочу тебя слушать! Не хочу говорить с тобой! Ты один виноват во всем. Ты, только ты виноват в том, что я сделала, и в том, что я еще сделаю, и ты не смеешь этого отрицать. О, ты еще увидишь! Увидишь! Я еще покажу тебе!
Она повернулась, чтобы уйти, но он снова схватил ее за руки и притянул к себе. Он держал ее крепко, не обращая внимания на ее сопротивление, и в конце концов она, как всегда, перестала противиться и только судорожно всхлипывала, припав к его плечу.
— О да, я плачу! — воскликнула Эйлин сквозь слезы. — Но все равно, все равно теперь уж ничего не изменишь. Слишком поздно! Слишком поздно!
38. ПЕРЕД ЛИЦОМ ПОРАЖЕНИЯ
Стоический Каупервуд, прислушиваясь к громогласным словоизвержениям ораторов и наблюдая за суетой, предшествовавшей осенним выборам в муниципалитет, был куда больше огорчен неверностью Эйлин, чем происками своих врагов, хотя и видел, что на него ополчился весь город. Он еще не забыл неповторимого очарования тех дней, когда Эйлин была молода и все ее существо, казалось, излучало любовь и светлую веру в будущее. Эти воспоминания вплетались во все его мысли и дела, как вторая тема в оркестре. Несмотря на то, что по натуре Каупервуд был человеком на редкость деятельным, он не прочь был иной раз предаться самоанализу, способен был понять высокий драматизм и пафос разбитых иллюзий. Он не испытывал ненависти к Эйлин, — лишь печаль при мысли о том, к каким последствиям привело его непостоянство, его упрямое стремление к свободе от всяких уз. Жажда нового! Вечная жажда нового! Но все уходит безвозвратно… И кто же может без сожаления проститься с тем, что поистине прекрасно? Даже если это всего-навсего любовь, безрассудная, шальная любовь.
Но вот настало 6 ноября — день выборов в муниципалитет, — и шумная, нелепая и бестолковая процедура эта окончилась громовым поражением для ставленников Каупервуда. Из тридцати двух кандидатов демократической партии только десять были избраны олдерменами; две трети мест, то есть подавляющее большинство в муниципалитете, досталось республиканцам. Господа Тирнен и Кэриген благополучно оказались на своих старых местах, однако вместе с ними пришел к власти республиканский мэр и все его сторонники по республиканскому списку, которые теперь, судя по их заверениям, должны были стать носителями высоконравственного и неподкупного начала. Каупервуд прекрасно понимал, что все это должно означать, и уже готовился войти в соглашение с неприятельским лагерем. От Мак-Кенти и других политических заправил ему были известны все подробности предательства Тирнена и Кэригена, но он не питал к ним злобы. Что ж, такова жизнь. Значит, в дальнейшем надо либо зорче следить за этими господами, либо расставить им какую-нибудь ловушку и покончить с ними раз навсегда. Они, конечно, изображали дело так, что им-де самим с трудом удалось набрать необходимое количество голосов.
— Нет, вы поглядите-ка, что получилось! Я сам едва-едва пролез — набрал всего на три сотни голосов больше, чем противник! — жаловался лукавый Кэриген при всяком удобном случае. — Черт подери! Я уж думал, что потеряю свой округ.
Мистер Тирнен горячился ничуть не меньше.
— От полиции нет никакого проку, — торжественно заявил он. — Моих ребят избивают, а полисменам хоть бы что! Я едва наскреб шесть тысяч голосов, а ведь должен был получить не меньше девяти.
Но им никто, разумеется, не верил.
Пока Мак-Кенти напряженно обдумывал, как бы в течение ближайших двух лет восстановить свое пошатнувшееся положение, а Каупервуд строил планы умиротворения враждебных ему олдерменов, считая это наилучшей политикой при сложившихся обстоятельствах, господа Хэнд, Шрайхарт и Арнил, в союзе с молодым Мак-Дональдом, ломали себе голову над тем, как, воспользовавшись своей временной победой, окончательно добить Каупервуда. Снова началась борьба, длительная, сложная, и в результате ее (прежде чем Каупервуд получил возможность войти в соглашение с новыми олдерменами) муниципалитет принял на рассмотрение и уже готовился одобрить проект концессии, которую давно просила Общечикагская компания электрических железных дорог и против которой всегда боролся Каупервуд; кроме того, уже шли слухи о предоставлении различным мелким компаниям прав и привилегий в окраинных районах, и наконец — что было хуже всего и до чего Каупервуд не додумался, — поговаривали, что муниципалитет склонен разрешить некой компании постройку и эксплуатацию надземной железной дороги на Южной стороне. Это было самым жестоким ударом для Каупервуда, ибо теперь положение с чикагскими железными дорогами, которое, несмотря на все трудности, было до сего времени сравнительно простым, чрезвычайно осложнялось.
Вкратце дело сводилось к следующему. Лет двадцать назад в Нью-Йорке было построено несколько линий надземной железной дороги с целью разгрузить движение в нижней части этого узкого и длинного острова, и успех нового вида транспорта превзошел ожидания. Каупервуд заинтересовался надземными дорогами с самого момента их возникновения, как интересовался всем, что имело какое-либо отношение к городскому железнодорожному транспорту. Во время своих неоднократных наездов в Нью-Йорк он подробно ознакомился с их устройством. Ему удалось также разузнать и всю коммерческую сторону дела — стоимость содержания дорог, размеры дохода, финансовое состояние компаний, которым они принадлежали, и имена тех, кто стоял за спиной этих компаний. Каупервуд тогда же пришел к выводу, что для такого перенаселенного островка, как Нью-Йорк, надземные дороги являются идеальным разрешением транспортной проблемы. Совсем другое дело — Чикаго, где население едва достигало миллиона и было разбросано на довольно обширной территории. Здесь, по мнению Каупервуда, эти дороги никак не могли оправдать себя — в течение ближайших лет во всяком случае. Они бы только переманивали пассажиров у наземных дорог, и, следовательно, построив надземные дороги, он увеличил бы свои издержки, отнюдь не увеличив доходы. Впрочем, мысль о том, что надземные дороги могут быть построены помимо него, если кому-нибудь удастся раздобыть концессию, — что до последних выборов он не считал возможным, — порой все же приходила ему в голову, и он как-то сказал Эддисону:
— Пускай себе вкладывают деньги в это предприятие; к тому времени, когда население у нас возрастет и дороги эти станут доходными, они уже перейдут к кредиторам. Если кому-то пришла охота загонять дичь в мой силок — что ж, пожалуйста, со временем их дороги достанутся мне за бесценок.
Эддисон нашел такое умозаключение вполне разумным. Однако вскоре после этого разговора положение изменилось, и постройка надземных железных дорог в Чикаго стала делом отнюдь не столь проблематичным, как это казалось вначале.