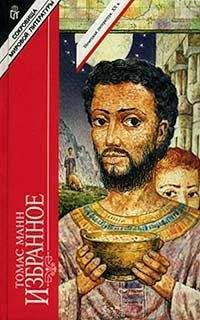Они сидели на удобных табуретках, и перед каждым, наискосок, стоял столик с веселой горой еды, закусок и украшений, фруктов, пирожных, овощей, пирогов, огурцов, тыкв, роговых сосудов с цветами и сластями, а с другой стороны — изящный умывальный прибор, красивая подставка для амфор и медный таз для объедков. Слуги в набедренниках, под особым надзором купора, наполняли чаши; другие принимали у смотрителя поставца главные блюда, телятину, баранину, жареную рыбу, птицу, дичь и подносили ее гостям, не отдавая им, однако, ввиду высокого звания хозяина, никакого перед ним предпочтения. Наоборот, Адон получал не только первые, но и самые лучшие куски и гораздо больше, чем остальные, — правда, лишь для того, чтобы угощать других, ибо, как то записано, «кушанья посылались им от него», то есть он посылал с приветом то одному, то другому, иной раз какому-нибудь египтянину, а иной раз кому-либо из чужеземцев, то жареную утку, то варенье из айвы, то золоченую косточку с нанизанными на нее кольцами лакомых пряженцев; самому же младшему азиату, соседу своему слева, он то и дело сам подавал куски с собственного стола; а поскольку такие знаки благоволения высоко ценились и египтяне внимательно вели им счет, то потом все это обсуждалось и перечислялось, благодаря чему до нас и дошло, что маленький бедуин действительно получил со стола господина впятеро большую долю, чем все другие.
Вениамину было совестно, он просил не потчевать его больше и виновато поглядывал на египтян и на братьев. Он не смог бы съесть столько, сколько ему подавалось, даже если бы еда и занимала сейчас его ум, — смущенный и удрученный ум, который искал, находил, терял и вдруг так несомненно находил снова, что сердце щемило от резких и быстрых толчков. Он вглядывался в безбородое, окаймленное крылатой иератической повязкой лицо хозяина, который потребовал его сюда поручителем, этого уже грузноватого египетского вельможи в белой одежде с блестящим нагрудником; глядел на этот улыбающийся во время беседы рот, в эти черные глаза, которые с шутливым блеском встречались с его глазами и порой, словно бы отступив, словно бы запрещая, закрывались — как раз тогда, когда его, Вениамина, глаза делались широкими от недоверчивой радости и от страха; глядел на вылепку этой украшенной резным лазуритом руки, протягивавшей ему блюдо или поднимавшей чашу, — и ему казалось, будто он чувствует запах детства, острый, согретый пряностью, вобравший в себя и восторженность, и ласковую задушевность, и все ошеломляющие предчувствия, и всю детскую непонятливость, и в то же время понятливость, и всю доверчивость, и все нежное беспокойство — запах мирта. Давний этот запах был неотделим от внутренних усилий, от попыток разгадать какую-то прекрасную загадку, от боязливо-гордого и покорного постижения какой-то туманной и страшной тождественности, от полумучительного-полублаженного нащупывания тождества чего-то по-приятельски близкого и чего-то более высокого, божественного, потому-то и чудился короткому носику Туртурры этот пряный дух детства, что все было так же, как тогда, только перевернуто, но разве перевернутость что-либо значит! В нынешнем, в высоком и чужом, угадывалось давнее и знакомое, проглядывая в нем в иные мгновенья со сжимающей сердце отчетливостью.
Владыка зерна долго болтал с ним за едой — в пять раз больше, чем с египетским титулоносцем, что сидел по правую его руку. Он расспрашивал его о житье-бытье, о его детях: старшего из них звали Бела, младшего покамест — Мупим. — «Мупим! — сказал владыка зерна. — Поцелуй его за меня, когда вернешься домой, ведь это же просто чудо, что у младшего есть еще младший. А кто перед ним, предпоследний по старшинству? Его зовут Рос? Прекрасно! Он от той же матери, что и младший? Да? Вот уж, наверно, они разгуливают вдвоем среди зеленых дерев? Только бы старший не пугал младшего — ведь тот еще карапуз — бог весть каким вздором, всякими историями о боге и прочими самонадеянными выдумками. Следи за ними, отец Вениамин!»
И он рассказал ему о собственных сыновьях, рожденных ему дочерью Солнца, о Манассии и Ефреме — нравятся ли Вениамину их имена? Нравятся, сказал Вениамин и оказался у порога вопроса, почему у них такие странные имена, но у этого порога он и застрял с широко раскрытыми от изумленья глазами. Застрял, впрочем, ненадолго, ибо его сосед, правитель земли Египетской, стал рассказывать всякие забавные вещи о Манассии и Ефреме, что сболтнул один и как напроказил другой, и это напомнило Бенони такого же рода случаи с собственными детьми, и оба покатывались со смеху от этих историй.
Тем временем Вениамин собрался с духом и постучался в дверь:
— Не соблаговолит ли твое великолепие ответить мне на один вопрос и разрешить гостю одну загадку?
— Постараюсь, как смогу, — ответил тот.
— Я хотел бы только, — сказал малыш, — чтобы ты рассеял мою тревогу и успокоил мое недоумение по поводу некоей осведомленности, которую ты обнаружил, и некоей точности, которой отличались твои распоряжения. Ты знаешь наизусть наши имена, братьев моих и мое, и, помня, кто из нас старше и кто младше, можешь без запинки перечислить нас по порядку, — правда, отец говорит, что когда-нибудь во всем мире детям придется это заучивать, ибо мы — избранная богом семья. Откуда ты это знаешь и как умудрился спокойный твой управляющий усадить нас так, как он это сделал, — первородного по его первородству, а младшего по его молодости?
— Ах, — отвечал хлеботорговец, — вот чему вы удивляетесь? Это совсем просто. Видишь эту чашу, серебряную с клинописью? Я из нее пью и по ней гадаю. Хотя у меня и есть ум, который, вероятно, даже выше среднего уровня, коль скоро я являюсь тем, кем являюсь, и фараон пожелал быть выше меня лишь царским престолом, — все же без чаши я вряд ли бы обошелся. Вавилонский царь подарил ее отцу фараона — я имею в виду не себя, носящего звание «Отец фараона» (фараон, правда, называет меня обычно «дядюшка»), а его настоящего отца, то есть, сделаю еще одну оговорку, не божественного, а земного, предшественника фараона, царя Неб-ма-Ра. Ему-то вавилонский царь и подарил ее на память, и таким образом она попала к моему господину, который и соблаговолил порадовать ею меня. А чаша эта и в самом деле нужна мне, ибо обладает ценнейшими свойствами. Она показывает мне, когда я заглядываю в нее, прошлое и будущее, открывает мне тайны вещей и обнажает их связи, как, например, порядок вашего рожденья, который я без труда определил с ее помощью. Доброй долей своего ума, почти всем, что выходит за пределы среднего уровня, я обязан этой чаше. Разумеется, я не трублю об этом на весь свет, но тебе как моему соседу и гостю я это рассказываю. Ты не поверишь, но эта вещица, если умело с ней обращаться, открывает мне картины далеких мест и того, что там когда-то происходило. Хочешь, я опишу тебе могилу твоей матери?
— Ты знаешь, что она умерла?
— Братья твои рассказали мне, что она рано ушла на Запад, эта миловидная, чьи щеки благоухали, как лепестки роз. Я не притворяюсь перед тобой, что узнал это сверхъестественным путем. Но стоит лишь мне поднести гадальную мою чашу ко лбу, — видишь, вот так, — пожелав при этом увидеть могилу твоей матери, и я сразу же вижу ее с такой ясностью, что сам удивляюсь. А ясность эта — от утреннего солнца, в лучах которого встает передо мной эта картина, и еще я вижу там горы и город на горе, в утреннем свете, совсем недалеко, до него только один переход. Вот пашенки между каменными осыпями, а по правую руку холмы виноградников, а спереди — сложенная без вяжущей смеси стена. А у стены шелковичное дерево, старое уже и дуплистое, и покосившийся ствол его укреплен камнями. Никто никогда не видел ни одного дерева отчетливей, чем я сейчас эту шелковицу и ее листья, колеблемые утренним ветром. А у дерева могила и камень, который они поставили там на память. И знаешь, там кто-то стоит на коленях, а на могиле его дары — вода и сладкие хлебцы, — и это, наверно, его верховой осел под деревом, милое такое животное, белый, с говорящими ушами и челка падает на добрые его глаза. Я и сам не думал, что моя чаша покажет мне все настолько отчетливо. Это действительно могила твоей матери или нет?
— Да, это она, — ответил Вениамин. — Но скажи, господин, неужели ты видишь так ясно только осла, но не путника?
— Его я вижу, пожалуй, еще яснее, — отвечал Иосиф, — но что тут и видеть? Это какой-то хлыщ, едва достигший семнадцати лет, стоит на коленях и принес жертву. Напялил на себя, дуралей, пестрое покрывало с вытканными узорами, а в голове у него ветер, он думает, что поехал прогуляться, а едет к своей погибели, и всего в нескольких днях пути от этой могилы его уже дожидается его собственная.
— Это мой брат Иосиф, — сказал Вениамин, и серые глаза его переполнились слезами.
— О, прости! — испуганно воскликнул его сосед и отставил чашу. — Я не стал бы говорить о нем так пренебрежительно, если бы знал, что это пропавший твой брат. А по поводу того, что я сказал о могиле, о его могиле, не нужно так огорчаться и не на шутку казниться. Могила эта, правда, отверстие нешуточное, глубокое, темное; но удерживать что-либо в себе она не способна. Она, видишь ли, пуста по природе своей: пуста яма, когда она ждет добычи, но если придешь к ней, когда она ее уже дождалась, она пуста снова, — камень отвален. Я не скажу, что она не стоит слез, эта яма, нет, впору даже пронзительно голосить в ее честь, ибо она существует, нешуточное, глубоко печальное установление мира и праздничной, помнящей каждый свой час истории. Я скажу даже, что из почтения к яме не нужно и виду подавать, что знаешь о природной ее пустоте, о ее неспособности удерживать что-либо. Это было бы невежливо по отношению к такому нешуточному установлению. Надо пронзительно причитать и рыдать и быть лишь втайне, совсем втайне, уверенным, что нет на свете такого ухода в преисподнюю, за которым не следовало бы неотъемлемое от него воскресение. Какая бы это была неполная, половинчатая история, если бы ее хватало лишь до ямы, а дальше бы она не знала, как быть! Нет, мир не половинчат, а целостен, и целостен праздник, и целостность его — нерушимый источник бодрости. А потому не тревожься из-за того, что я сказал тебе о могиле твоего брата, и приободрись!