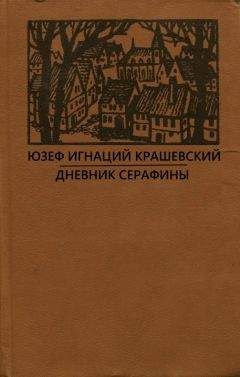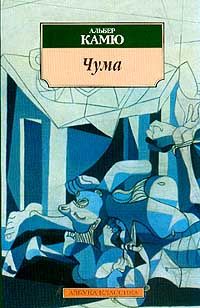Спутницей жизни ему была преданная жена, ума и нрава не быстрого, настолько привыкшая к покорности и обремененная заботами, что как тень ходила за мужем и лишь послушно исполняла его приказания. Даже сердце ее сумел он охладить и запугать — без его дозволения оно не смело ни биться, ни откликнуться, и, прежде чем высказать какую-то мысль или чувство, она смотрела в глаза своему владыке, не смея быть матерью собственным детям. Муж сумел ей привить и черствость, и трудолюбие, и скупость, убив все порывы к господству, волю и самостоятельность. Они сменились преклонением перед главою семьи, почтением к его уму, безграничною верой в его глубочайшую мудрость и рабской верностью. Вместе со своей супругой пан Шарский воспитывал детей по старинной методе, которая хорошо согласовалась с его скупостью литвина и вдобавок имела в его глазах то преимущество, что была традиционной, извечной. С детьми обращались строго, холодно, грубо, никогда не открывая перед ними душу, ничем не балуя и не думая о том, что, когда их выпустят в свет, эти послушные куклы, привыкнув всегда на кого-то опираться, могут без сил свалиться на дороге, когда такой опоры не будет.
Станислав был старший из детей, и, так как в годы его младенчества отцовская метода воспитания еще не установилась, ему предоставляли чуть побольше свободы, и внутренняя его жизнь была не полностью подавлена. Но по мере того как он подрастал, стали появляться на свет братья и сестры, число детей росло, отец укреплялся в своих педагогических воззрениях, мать же все сильнее перед ним робела, и Станиславу почему-то становилось в семье все тяжелее.
К счастью, настала пора учения в школе. Он вышел за пределы краснобродской усадьбы и вздохнул свободнее, хотя отец наказывал и воспитателям и учителям держать сына построже, а все ж с домашним гнетом никакого сравнения не было. И всякий раз, как Стась возвращался под домашний кров, к радости, вызванной привязанностью к дому, примешивались невыразимые страх и тревога — дни, проведенные с родителями, были днями плена вавилонского. Едва Станислав переступал порог, отец обретал вновь свою власть, на время перехваченную другими, и безжалостно им помыкал.
Две слезы выкатились из глаз Станислава, когда бричка, которою правил возница не менее перепуганный, чем сам паныч, потому что в дороге у него лошадь охромела, — затарахтела на последнем мостике и въехала во двор.
Еще минута, и надо предстать перед грозным судьей — бричка остановилась, но не успел Стась соскочить с нее, чтобы поздороваться с отцом, матерью, братьями и сестрами, а уже зоркое око судьи углядело со скамьи, где он сидел, издали наблюдая за хозяйством, охромевшую лошадь, и пан Шарский, воспылав гневом, подбежал к вознице с бранью. О том чтобы поздороваться с сыном, он и не думал, а тот стоял в нерешительности, не смея ни подойти к отцу, ни обнять на его глазах мать, братьев и сестер. Отец тряс возницу за плечо и громовым голосом кричал:
— Это что такое? Абрамек охромел? Абрамек охромел?
— Я не виноват, милостивый пан, простите, — оправдывался, дрожа от страха, возница, — верно, об что-то ушибся, плохо был подкован… Я ногу уже осмотрел… там ничего нет…
— А может, ты его покалечил где-то на крутом повороте или когда на водопой вел, бездельник? — вскричал судья. — Ох, и выдеру ж я тебя, если так окажется, ох, выдеру!
С этими словами пан судья сильною рукой приподнял ногу Абрамека, осмотрел копыто, сам почистил его, покачал головой и погрозил вознице кулаком — только теперь протянул он сыну руку для поцелуя, но без малейшего знака нежности. Глянул на него так, будто искал повода придраться и побранить, взял письма учителей и свидетельства, стал их читать, а сын тихонько пошел поцеловать руку перепуганной матери и обнять стоявших в ряд братьев и сестер.
Судья просматривал бумаги с невозмутимым лицом, ни одним движением не выдавая своих чувств, потом сложил листки, осмотрелся вокруг, заметил, что младшие дети стоят на крыльце, и зычно крикнул:
— Ну-ка, за дело! Еще успеете со Станиславом наговориться, а сейчас время занятий — за работу, каждый за свою!
Дети вмиг скрылись, осталась только мать, боязливо поглядывавшая то на мужа, то на сына.
— Ну что ж, я тобою доволен, — сказал отец после небольшой паузы Станиславу, поспешившему вторично поцеловать ему руку. — Гимназию ты окончил хорошо, тебя хвалят, ты выполнил свой долг. Благодарить за это не буду, ты сделал лишь то, что должен был сделать, — я на вас тружусь в поте лица, также и вы ради своего будущего должны поработать. Сегодня, так и быть, ты свободен, отдыхай и с матерью поговори, но помни, для молодых время дорого, а мне помочь некому, так что завтра — за хозяйство!
Станислав, пока из него не выветрилось школьное ощущение свободы, чувствовал себя посмелей и, пользуясь хорошим расположением отца, отважился высказать свое мнение, которое потом, возможно, было бы отвергнуто.
— Приказание ваше, отец мой и благодетель, для меня свято, — сказал он, пожалуй, немного слишком смелым тоном, судья даже нахмурился и удивленно повернулся к нему, — однако…
— Что за «однако»? Какое там еще «однако»? Откуда взялось это «однако»?
Станислав покраснел, но все же закончил:
— Если вы, отец мой и благодетель, дозволите мне и дальше заниматься науками, то времени вакаций едва хватит для подготовки к экзамену…
Судья от своих решений никогда не отступался, даже сознавая в душе, что ошибся, — особенно же перед детьми.
— Ты что, учить меня уже вздумал? — спросил он. — Шесть классов окончил и зазнался? А я, дурень ты этакий, пятый десяток кончаю, это чуть побольше, чем шестой класс! На все найдется время, если не лодырничать и не плевать в потолок; я тебе назначу часы работы, хочу, чтобы ты освоился с хозяйством и мне помогал. А теперь, — прибавил отец, указывая рукой, — ступай во флигель, там есть комнатка, будешь жить вместе с Фальшевичем, разложи вещи и устраивайся.
Так встретили поэта в родном доме, но, несмотря на суровость отца, на внешнее равнодушие матери, робость братьев и сестер, неудобное жилье, которое пришлось делить с учителем младших братьев, неким Фальшевичем, препротивным болваном, имевшим лишь то достоинство, что был послушен и дешево брал, — Стась чувствовал себя в Красноброде счастливым.
Он любил эти места, связанные для него с тяжкими переживаниями, но также с отрадными воспоминаниями детства, и чуть не со слезами приветствовал их вновь; каждый уголок напоминал какую-нибудь минуту его жизни, редко приятную, чаще чем-то страшную, но в голове и в сердце поэта эти минуты уже выкристаллизовались в драгоценные бриллианты — памятки. Станислав был уже не ребенок, его ровесники пользовались полною свободой, ему же дома ни в чем не было воли. Нечего и говорить о том, что он был лишен самого необходимого, на это он даже не жаловался и не обращал внимания, хотя часто ему бывало стыдно в перешитом отцовском платье с потертыми локтями и в дырявых сапогах ехать в костел, — за это он ни на кого не обижался. Добрая матушка готова была слушать все, кроме жалоб на отца, тут она вмиг умолкала, поджимала губы, давая понять, что даже как слушательница не желает соучаствовать; братья были еще так малы, а сестры так наивны, и так редко удавалось побыть с ними наедине и поговорить по душам, что Станислав жил чрезвычайно одиноко и замкнуто. Учителишка Фальшевич, сосед по комнате, скорее был в тягость, чем услаждал его одиночество. То был один из тех тупиц, которые способны лишь заучить несколько идей и всю жизнь их повторять, но своего суждения не имеют и живут день за днем, ни о чем не задумываясь. Вдобавок он любил выпить, а судьи боялся так, что дрожал от одной мысли о его гневе и даже готов был доносить, если что заприметит лишь бы удостоиться хоть ничтожной милости.
Фальшевич считал себя намного выше бывшего гимназиста с его шестью классами, собиравшегося поступать в университет, однако невольное ощущение умственного превосходства Стася вызывало в нем зависть и неприязнь. Раз уж пан судья поселил их вместе, Фальшевич счел своей обязанностью следить за Стасем и досаждать, чем только мог. Разговаривать с Фальшевичем было не о чем, в голове у него, кроме грамматики да отрывков элементарных знаний, которые он по книжке, не скупясь на удары линейкой, повторял своим ученикам, кроме домашних сплетен да нескольких любимых песенок, не было ничегошеньки. Стоило только взглянуть на его физиономию багрового, а иногда даже фиолетового цвета, плоскую, как морда мопса, с низким лбом, над которым топорщились щетиноподобные волосы, с большущими торчащими ушами и носом-шишечкой, на всю его сгорбленную фигуру с непомерно длинными руками, обычно висевшими беспомощно в еще более длинных рукавах, — пропадала всякая охота даже поиздеваться над ним.
Первый вечер прошел еще сносно: хотя Фальшевич напускал на себя важность и старался играть роль старшего, но держался прилично; на другой день отец поставил Станислава наблюдать за молотьбой — правда, разрешив взять книгу, — но всего лишь два раза отпустил сбегать домой. Тем временем тупоумный, но любопытный учитель набросился на бумаги «студента» и начал в них рыться самым бесцеремонным образом. Волосы встали у него дыбом, когда он увидел толстую тетрадь со стихами и по надписи на ней узнал, что это стихи пана Станислава. Попробовал почитать, но, ничего не поняв, еще пуще рассердился и распалился, спрятал corpus delicti[15] в карман, запер комнату на ключ и со всех ног помчался к судье доносить.