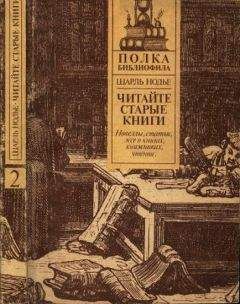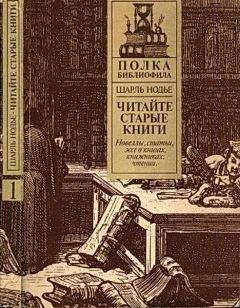Демон безусловно принадлежал к числу глубоко чувствующих, но осторожных и даже пугливых людей, которые любят примирять веления сердца с велениями долга и в смутные времена не становятся полностью ни на чью сторону, поскольку ни одна сторона не может считаться правой во всем — это предполагало бы, что противная сторона во всем не права, а такая абсолютная слепота составляет, очевидно, исключительное преимущество современной эпохи[24]. Принужденный выбирать между Церковью и законным королем{61}, между вероломством и вероотступничеством, неловкий, как все порядочные, но робкие люди, он облачил свою нерешительность в мистические неудобопонятные фразы, которые наверняка не понравились ни королю, ни Лиге, хотя он желал жить в мире и с тем и с другой. Хочется верить, что он остался советником Амьенского суда, меж тем, будь он чуть-чуть половчее, он бы далеко пошел — ведь он был не в своем уме.
Во всех странах, во всех литературах вечно повторяется одна и та же история, лишний раз напоминающая о человеческом несовершенстве: стоит только обществу под влиянием неких катаклизмов задуматься о своем предназначении, а литераторам — о предмете и цели их занятий, как та или другая сторона, а зачастую и обе вместе делают ошибку за ошибкой. Даже Ньютон, комментируя Апокалипсис, едва ли не впадает в безумие. Что же удивительного в том, что добряк Демон окончательно сошел с ума, пытаясь примирить такие непримиримые вещи, как видения Иоанна Богослова, римско-католическую теократию и свободу?
Осмелюсь сказать напоследок, что если и осталась еще в библиографии неисследованная тема, достойная отдельной книги, то тема эта — ”Библиография безумцев”{62}, а если существуют книги, из которых можно составить занимательную, любопытную и поучительную библиотеку, то это книги, сочиненные сумасшедшими. Даже если не включать в их число ни Мерсье, который попусту растрачивал свой ум, ни Дидро, который попусту растрачивал свой гений, ни Мальбранша, которому привычный недуг не мешал в ученых занятиях, ни Паскаля, которому мономания служила, возможно, источником пыла и вдохновения, если даже умолчать о Паризо, Морене, Давене и Постеле и не вспоминать поэтов от Тассо до Жильбера{63}, все равно приходится признать, что нет более благодатной темы для историка литературы; а если сравнить число здравых идей с общим объемом написанного безумцами, то окажется, что они намного обогнали всех прочих сочинителей.
В заключение скажем, что ”Диалактическая секстэссенция” не имеет отношения к мистической теологии, хотя она, как и все книги того времени, полна мистикотеологических пассажей; не принадлежит она и к поэзии, хотя автор напечатал в этом томе немало скверных стихов, подозревая, вероятно, что больше такой возможности ему не представится; ”библиографическое” место ”Секстэссенции” — рядом с ”Менипповой сатирой”{64} (которая скорее всего была опубликована не раньше 1594 г.). Правда, рядом с этим сочинением книга Демона выглядит, как Ликофрон рядом с Гомером или Ретиф де Ла Бретонн{65} рядом с Рабле.
Lectionum Bibliothecarum memorabilium syntagma, continens dissertationes variorum: de Bibliothecis et libris, literis et literatis, edita a Rudolfo Capello. Hamburgi, sumptibus Georgii Wolfii [Выбранные места из сочинений знаменитых библиотекарей, содержащие различные рассуждения: о библиотеках и книгах, словесности и словесниках. Издано Рудольфом Капеллусом. В Гамбурге, по заказу Георга Вольфа]. 1682. 12°. В сафьяновом переплете лимонного цвета работы Фогеля.
Подсчитать количество страниц в этом томе нелегко, поскольку они не нумерованы: за десятью вступительными страницами следуют десять листов с сигнатурами А — Hh; последний лист состоит из десяти страниц, на последней из которых обозначено имя типографа — Михаэль Пипер. Три первых листа, за исключением двух страниц, напечатаны по-немецки, равно как и десять вступительных страниц, лишенных сигнатуры. Первая из них гравирована. В начале листа А помещен портрет Рудольфа Капеллуса. Поскольку книга была напечатана по заказу Вольфа из Гамбурга, можно было бы ожидать, что она полностью или частично вошла в ”Monumenta typographica”{66}, но я осмелюсь утверждать, что это не так — недаром я некогда занес ее в разряд ”неизвестных” книг, а затем убедился, что о существовании ее не ведают не только французы, но и немцы.
Несчастливая судьба нашего Капеллуса не может не вызвать у нынешних филологов и библиографов горьких раздумий. Она неопровержимо доказывает, что в библиографии больше, чем в любом другом роде литературы, ”книги имеют свою судьбу”; ведь Lectiones bibliothecariae являются, по моему глубокому убеждению, едва ли не самым занимательным из сборников такого рода; богатство и увлекательность освещенных здесь сюжетов таковы, что книга читается с неослабевающим интересом с начала и до конца. Быть может, французских собирателей отпугнул немецкий шмуцтитул и три-четыре страницы на немецком в начале и конце книги? Это я еще могу понять, но какая роковая случайность привела к тому, что о книге Капеллуса ничего не ведают и немецкие библиографы, столь неутомимо пекущиеся о фактической точности, столь почтительные к авторитетам, столь мало склонные ниспровергать своих славных предшественников, что их скорее можно упрекнуть в излишней предупредительности? Как объяснить, что о Капеллусе молчат Бауэр и Фрейтаг, Фогт и Бейер? О редкости этого замечательного библиографического сочинения можно судить уже по тому, что имя его автора ускользнуло даже от господина Вейсса, ибо во ”Всемирной биографии”, равно как и во всех известных мне каталогах, исключая разве что каталог Бунау{67}, о нем не сказано ни слова. Почти полное забвение такой книги не может объясняться гонениями со стороны властей, однако, как мы вскоре увидим, причиной его не могло стать и мудрое презрение, которое в эпоху фундаментальных знаний и фундаментальных исследований окружало одни книги всеобщим почтением, а множество других обрекало на смерть в лавке бакалейщика. Повторяю еще раз, книга Капеллуса столь же занимательна, сколь и поучительна, и источником ее невзгод был скорее всего какой-либо несчастный случай, вроде тех, что подстерегли фолиант Рюдбека и ин-октаво Дальгарно{68}.
Хотя я и обещал дать читателю представление о достоинствах этого любопытного сочинения, автор которого знаком нам лишь по имени, я воздержусь от подробного рассказа: он отнял бы слишком много времени, ибо мало есть книг, содержащих такое количество мелких библиологических сведений и прелестных историй. Ограничусь перечислением: в первой части отмечу превосходное ”похвальное слово” собирателям и хранителям публичных библиотек; во второй — заметки о ”библиотечной” ономатологии и фразеологии, содержащие все необходимые сведения по этим вопросам; в третьей — великолепные разыскания об искусстве письма, или хирографии{69}, которую мы высокопарно именуем каллиграфией, о типографском искусстве, о видах бумаги, о пергаменте и живописных украшениях, принятых в новое время; о пожарах в библиотеках, в особенности же о пожаре, в котором сгорели почти все экземпляры знаменитой ”Небесной машины”{70} Гевелия; наконец, в четвертой — любопытные трактаты Шпицелиуса{71} о счастливых и несчастливых литераторах, Феррариуса — о невзгодах литераторов, Бартолинуса и Фритшиуса — о пороках литераторов и злоключениях библиотек. Не эти ли превосходные сочинения включил в свой сборник 1707 года ученый издатель книги Цицерона ”Об изгнании”, присвоенной Алциониусом{72}, Иоганн Буркхард Менке? В данный момент я не могу это проверить, ибо лишился книги Менке, но мне было бы досадно, если бы оказалось, что издатель Алциониуса незнаком с книгой нашего Капеллуса; осмелюсь утверждать, что любопытные суждения, содержащиеся в его труде, единственны в своем роде. Мой ученый друг господин Пеньо писал где-то, что книгам грозят три главных врага: крысы, черви и пыль; шутя, он добавил сюда четвертого противника — ”зачитывателей” книг. Наш добрый Фритшиус увеличил бы этот список ка добрую сотню, из которой я назову лишь дюжину самых опасных врагов, которых следует опасаться библиофилам: это клопы, тараканы, моль, котята, дети, неуклюжие и любопытные гости, люди с грязными или грубыми руками, масло, воск, сало, а главное, воры. Впрочем, я ошибаюсь, Фритшиус называет и еще более страшных врагов: ”Тираны, противники и преследователи, люди вздорные, глупые, бессмысленные и невежественные, питающие ненависть к людям образованным, к книгам, учености и ученым”.
Венчает книгу Капеллуса весьма ученая ”Записка”, трактующая о литературной и библиографической истории допотопной и послепотопной эпохи{73} — эпохи предмоисеевой и предмонархической, то есть об истории тех любопытнейших и загадочнейших инкунабул, исследователь которых может полагаться лишь на смутные предания, дожидающиеся, пока ясный критический ум внесет луч света в их потемки. Таким образом, знакомя библиофилов и библиографов с моим Капеллусом, я ничуть не преувеличил его заслуг, не побоюсь даже добавить, что переиздание его книги принесло бы большую пользу ученым и литераторам тех стран, где кого-то еще интересует научная литература, — например, Германии.