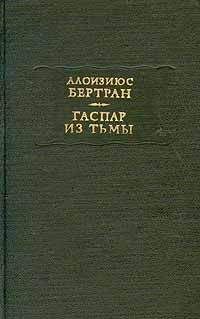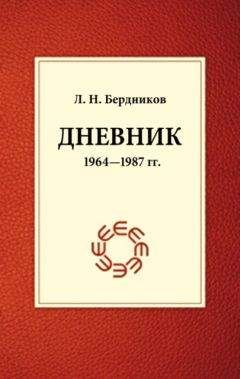Флюгера перестали вертеться; месяц разогнал жемчужно-серые облака, дождь теперь лишь капля за каплей стекал с крыш, а ветерок, распахнув неплотно затворенное окно, бросил мне на подушку сорванные грозой лепестки жасмина.
Снилась мне всякая всячина, но я ничего не понял.
«Пантагрюэль», кн. 111
Спускалась ночь. Сначала то был – как видел, так и рассказываю – монастырь, на стенах коего играл лунный свет, лес, изборожденный извилистыми тропками, и Моримон [116], кишевший плащами и шапками.
Затем то был – как слыхал, так и рассказываю – погребальный колокольный звон, и ему вторили скорбные рыдания, доносившиеся из одной из келий, жалобные вопли и свирепый хохот, от которых на деревьях трепетали все листочки, и молитвенные напевы черных кающихся [117], провожавших какого-то преступника на казнь.
То были, наконец, – как завершился сон, так и рассказываю – схимник, готовый испустить дух и лежащий на одре для умирающих, девушка, повешенная на дубовом суку, – она барахталась, пытаясь освободиться, – и я сам, весь растерзанный, а палач привязывал меня к спицам колеса.
Дон Огюстен, усопший игумен, будет облачен в кордельерскую рясу [118] и торжественно отпет в часовне. Маргариту же, убитую своим возлюбленным, похоронят в белом платье, подобающем девственницам, и зажгут четыре восковых свечи.
Что же касается меня, то железный брус в руках палача при первом же ударе разбился, как стеклянный; факелы черных кающихся погасли от проливного дождя, толпа растеклась вместе со стремительными, бурными ручейками – и до самого рассвета мне продолжали сниться сны.
Все в этой комнате было по-прежнему, если не считать, что гобелены превратились в лохмотья, а в пыльных углах пауки сплели паутину.
Вальтер Скотт. Вудсток
Почтенные персонажи готического гобелена, тронутого ветром, учтиво раскланялись друг с другом, и в комнату вошел мой прадед – прадед, умерший уже почти восемьдесят лет тому назад!
Здесь, именно здесь, перед аналоем, коленопреклонился он, мой прадед Советник, и приложился бородой к желтому молитвеннику, раскрытому на странице, которую заложили ленточкой.
Он всю ночь шептал молитвы, ни на минуту не разомкнул рук, крестообразно сложенных на лиловом шелковом кафтане, ни разу не обратил взгляда на меня, своего потомка, лежащего в его постели, в запыленной постели с балдахином!
И я с ужасом заметил, что глаза у него пустые, хоть и казалось, будто он читает, что губы его неподвижны, хоть я и слышал, как он молится, что пальцы его – обнаженные кости, хоть на них и сверкают драгоценные каменья.
И я не в силах был понять – бодрствую я или сплю, сияет ли то луна или Люцифер, – полночь ли теперь или занимается заря.
Спвозь дрему мне казалось,
Что тихо – словно волн шуршанье
о песок –
О чем-то рядом пел печальный голосок,
И песня грустная слезами прерывалась.
Ш. Брюньо. Добрый и злой гений
«Слышишь? Слышишь? Это я, Ундина, бросаю капли воды на звенящие стекла твоего окна, озаренного унылым светом месяца. Владелица замка, в муаровом платье, любуется со своего балкона прекрасной звездной ночью и чудесным задремавшим озером.
Каждая струйка течения – водяной, плывущий в потоке; каждый поток – извилистая тропка, ведущая к моему дворцу, а зыбкий дворец мой воздвигнут на дне озера – между огнем, землей и воздухом.
Слышишь? Слышишь, как плещется вода? Это мой отец взбивает ее зеленой ольховой веткой, а сестры мои обнимают пенистыми руками нежные островки водяных лилий, гладиолусов и травы или насмехаются над дряхлой, бородатой вербой и мешают ей удить рыбу».
Пропев свою тихую песенку, Ундина стала молить меня принять с ее пальца перстень, быть ей супругом [121], посетить ее дворец и стать владыкой озер.
Но я ей ответил, что люблю земную девушку. Ундина нахмурилась, с досады пролила несколько слезинок, однако тут же расхохоталась и превратилась в струи весеннего дождика с градом, который белыми потоками низвергался по синим стеклам моего окна.
Онбросил в очаг несколько веточек освященного остролиста [123], и они загорелись, потрескивая.
Ш. Нодье. Трильби
«Сверчок, друг мой! Уж не умер ли ты, что не отзываешься на мой посвист и не замечаешь отсветов огня?»
А сверчок, как ни были ласковы слова саламандры, ничего не отвечал ей – то ли он спал волшебным сном, то ли ему вздумалось покапризничать.
«Ах, спой же мне песенку, которую поешь каждый вечер, укрывшись в своей каморке из копоти и пепла, за железным щипком, украшенным тремя геральдическими лилиями!»
Но сверчок все не отвечал, и огорченная саламандра то прислушивалась – не подает ли он голос, то принималась петь вместе с пламенем, переливавшим розовыми, голубыми, красными, желтыми, белыми и лиловыми блестками.
«Умер! Друг мой сверчок умер!» И мне слышались как бы вздохи и рыдания, в то время как пламя, ставшее мертвенно-бледным, затухало в опечаленном очаге.
«Умер! Л раз он умер, хочу и я умереть!» Веточки остролиста догорели, пламя ползло по уголькам, прощаясь с железным щитком, и саламандра умерла от истощения.
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? [124]
А. де Латуш. Лесной царь. (Из Гёте)
Здесь соберутся! И вот в лесной чаще, чуть освещенной фосфорическим глазом дикой кошки, что притаилась под ветвями;
На склоне утесов, поросших кустарником и устремляющих в темные бездны лохматую поросль, во тьме, сверкающей росой и светлячками;
Возле ключа, который брызжет у подножья сосен белоснежной пеной и стелет над замками серую мглистую пелену, -
Собирается несметная толпа. Запоздалый дровосек, бредущий с вязанкой на горбу, слышит, но не видит ее.
А с дерева на дерево, с пригорка на пригорок, вторя друг другу, несутся бесчисленные смутные, зловещие, жуткие звуки: «Пум! пум! – Шп! шп! – Куку! куку!».
Виселица тут! И вот в тумане появляется жид; при золотистом мерцании «славной руки» [125] он что-то ищет в сырой траве.
Здесь кончается третья книга Фантазий Гаспара из ТьмыЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ФАНТАЗИЙ ГАСПАРА ИЗ ТЬМЫ
ЛЕТОПИСИ
XXXI. Мастер Ожье (1407)
Оный король, шестой, по имени Карл, был вело добродушен и зело любим, и народ ненавидел только герцогов Орлеанских да Бургундских, кой взимали непомерные подати во всем королевстве. "
«Временники и летописи Франции от сражения при Труа до царствования Людовика ХІ», сочинение мэтра Николля Жилля
– Государь, – обратился мастер Ожье к королю, смотревшему из окошка своей часовни на старый Париж, залитый веселыми лучами солнца, – слышите вы, как на пышный, ветвистый виноградник во дворе вашего Лувра налетела целая стая прожорливых воробьев?
– Еще бы не слышать! – отвечал король, – Такой прелестный щебет!
– Виноградник – в вашем саду; и все же не будет вам пользы от сбору, – возразил мастер Ожье, благодушно улыбаясь, – воробьи – дерзкие лиходеи, и так им по душе клевать, что клевать они будут, пока всего не склюют. Урожай с вашего виноградника они соберут вместо вас.
– Ну, нет, куманек! Я прогоню их! – воскликнул король.
Он поднес к губам свисток из слоновой кости, висевший у него на золотой цепи, и засвистел так пронзительно и резко, что воробьи улетели на дворцовый чердак.
– Государь, – сказал тут мастер Ожье, – позвольте мне извлечь из этого такое назидание. Воробьи эти – ваши дворяне, виноградник же – народ. Одни пируют за счет других. Государь, кто обирает народ, тот обирает властелина. Запретите грабеж! Свистните и сами соберите урожай с виноградника.
Мастер Ожье смущенно крутил в руках уголок своего колпака. Карл VI поник головой и, пожав парижскому обывателю руку, вздохнул: «Вы – честный человек!».
XXXII. Потайной ход в Лувре
То был карлик ленивый, своенравный и злой; но он был предан, и хозяин дорожил его услугами.[126]
Вальтер Скотт. Песнь менестреля
Слабый огонек вспыхнул на другом берегу замерзшей Сены, под Нельской башней, а теперь был уже в сотне шагов, плясал в тумане и – о чудо адских сил! – потрескивал, словно издевательски хихикая.