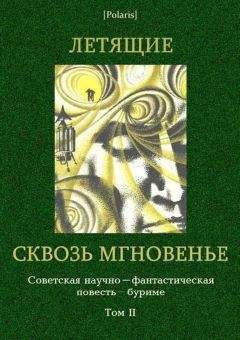А он смотрел на нее и, вновь охваченный безумным желанием любить ее и быть любимым ею, спрашивал себя: как может она перестать сердиться, как могла она снова прийти сюда, слушать его и отвечать ему, когда между ними встало такое воспоминание?
Но коль скоро она может снова видеть его, слышать его голос и терпеть в его присутствии ту единственную мысль, которая, несомненно, ее не покидает, стало быть, эта мысль не сделалась для нее невыносимой. Когда женщина ненавидит мужчину, овладевшего ею насильно, она не может при встрече с ним не дать выхода своей ненависти. И этот мужчина ни в коем случае не может стать ей безразличным. Она либо ненавидит его, либо прощает. А от прощения до любви рукой подать.
Все еще медленно водя кистью, он рассуждал, находя мелкие, но точные, ясные, убедительные аргументы; он чувствовал себя просветленным, чувствовал свою силу, чувствовал, что теперь он будет хозяином положения.
Ему только надо было запастись терпением, проявить осторожность, доказать свою преданность, и не сегодня-завтра она снова будет принадлежать ему.
Он умел ждать. Теперь уже он пустился на хитрости, чтобы успокоить ее и снова покорить: он скрывал свои нежные чувства под притворным раскаянием, под смиренными знаками внимания, под видом равнодушия. Он был совершенно уверен в том, что будет счастлив, — так не все ли равно, случится это чуть раньше или же чуть позже! Он даже испытывал какое-то странное, особое наслаждение от того, что не торопится, от того, что выжидает, от того, что, видя, как она каждый день приходит с ребенком, говорит себе: «Она боится меня!» Он чувствовал, что оба они стараются снова сблизиться и что во взгляде графини появилось какое-то странное, неестественное, страдальчески-кроткое выражение, появился тот призыв борющейся души, слабеющей воли, который словно говорит: «Так бери же меня силой!» Малое время спустя она, успокоенная его сдержанностью, снова стала приходить одна. Тогда он начал обращаться с ней как с другом, как с товарищем, он рассказывал ей, как брату, о своей жизни, о своих планах, о своем искусстве.
Завороженная этой непринужденностью, польщенная тем, что он выделил ее среди многих других женщин, она охотно взяла на себя роль советчицы; к тому же она была убеждена, что его талант становится более утонченным от этой духовной близости. Но, интересуясь ее мнениями, выказывая ей глубокое уважение, он незаметно заставил ее перейти от роли советчицы на роль жрицы-вдохновительницы. Ее прельщала мысль, что таким образом она будет оказывать влияние на великого человека, и она почти была согласна на то, чтобы он любил ее как художник, коль скоро она — вдохновительница его творчества.
И вот, однажды вечером, после долгого разговора о любовницах знаменитых художников, она незаметно для себя самой очутилась в его объятиях. Но на сей раз она уже не пыталась вырваться и отвечала на его поцелуи.
Теперь она чувствовала уже не угрызения совести, а лишь смутное ощущение падения, и, чтобы ответить на укоры разума, поверила в то, что это судьба. Она тянулась к нему своим доселе девственным сердцем, своей доселе пустовавшей душой, телом, постепенно покорявшимся власти его ласк, и мало-помалу привязалась к нему, как привязываются нежные женщины, полюбившие впервые.
А у него это был острый приступ любви, любви чувственной и поэтической. Порой ему казалось, что однажды он распростер руки и, взлетев ввысь, сжал в объятиях дивную, крылатую мечту, которая вечно парит над нашими надеждами.
Он закончил портрет графини, портрет, бесспорно лучший из всех, им написанных, ибо ему удалось рассмотреть и запечатлеть то непостижимое и невыразимое, что почти никогда не удается раскрыть художнику: отблеск, тайну, образ души, который неуловимо скользит по лицам.
Прошли месяцы, а потом и годы, но они почти не ослабили тех уз, которые связывали графиню де Гильруа и художника Оливье Бертена. Страсть, которую он испытывал на первых порах, уже прошла, но ее сменило спокойное, глубокое чувство, своего рода любовная дружба, которая превратилась у него в привычку.
В ней же, напротив, непрестанно росла пылкая привязанность, та упорная привязанность, какая появляется у женщин, которые отдаются одному мужчине, всецело и на всю жизнь. Такие же прямые и честные, какими они могли бы быть в супружестве, эти женщины отдают свою жизнь своему единственному чувству, от которого их ничто не отвратит. Они не только любят своих любовников — они хотят любить их, они видят их одних, и сердца и мысли этих женщин настолько полны ими, что ничто постороннее не может туда проникнуть. Они связывают свою жизнь так же прочно, как, готовясь броситься в воду с моста, связывает себе руки человек, умеющий плавать и решившийся умереть.
Однако с тех самых пор, когда графиня, подобно этим женщинам, всю себя отдала Оливье Бертену, ее стали осаждать сомнения в его постоянстве. Ведь его не удерживало ничто, кроме его мужской страсти, его прихоти, его мимолетного увлечения женщиной, которую он встретил случайно, как встречал уже столько других! Она чувствовала, что, не связанный какими-либо обязательствами, привычками, не отличавшийся излишней щепетильностью, как и все мужчины, он был совершенно свободен, был так доступен искушению! Он был красив, знаменит, все искали с ним знакомства, его быстро вспыхивающим желаниям отвечали все светские женщины, чье целомудрие столь хрупко, все женщины, созданные для постели, все актрисы, которые столь щедро расточают свои милости таким людям, как он. В один прекрасный вечер, после ужина, какая-нибудь из них может пойти за Оливье, понравиться ему, завладеть им и не отпустить.
Она жила в постоянном страхе потерять его, она приглядывалась к его поведению, к его настроению; одно его слово могло взволновать ее, она приходила в отчаяние, когда он восхищался другой женщиной, когда он восторгался прелестью чьего-нибудь лица или изяществом чьей-нибудь фигуры. Все, чего она не знала о его жизни, заставляло ее трепетать, а все, что знала, приводило ее в ужас. При каждой встрече она ловко выспрашивала его, чтобы, таким образом, он, сам того не замечая, вынужден был рассказать, что он думает о людях, с которыми видится, о домах, где он обедает, о самых ничтожных своих впечатлениях. Едва ей начинало казаться, что она догадывается о чьем-то влиянии на него, как она с помощью бесчисленных уловок тут же старалась побороть это влияние, обнаруживая поразительную находчивость.
О, как часто предчувствовала она легкие интрижки, которые длятся одну-две недели и которые время от времени возникают в жизни каждого видного художника!
У нее, если можно так выразиться, был нюх на опасность, и она чуяла ее приближение прежде, чем ее предупреждало о новом желании, пробуждающемся в Оливье, то счастливое выражение, какое появляется в глазах и на лице мужчины, возбужденного мыслью о новом любовном приключении.
Это заставляло ее страдать; теперь она никогда не спала спокойно, сон ее то и дело прерывался оттого, что ее терзали сомнения. Чтобы застать Оливье врасплох, она приходила к нему без предупреждения, задавала ему вопросы, на первый взгляд казавшиеся наивными, выстукивала его сердце, выслушивала его мысль, как выстукивают и выслушивают больного, чтобы распознать затаившуюся в нем болезнь.
Оставшись одна, она тотчас принималась плакать: она была совершенно уверена в том, что уж на этот раз его отнимут у нее, похитят эту любовь, за которую она держалась так крепко, потому что со всей щедростью вложила в нее всю силу своей привязанности, все свои надежды, все свои мечты.
Зато когда она чувствовала, что после кратковременного охлаждения он вновь возвращается к ней, она стремилась снова взять его, снова завладеть им, как потерянной и найденной вещью, и при этом ее охватывало чувство безмолвного и такого глубокого счастья, что, проходя мимо церкви, она бросалась туда, чтобы возблагодарить бога.
Постоянная забота о том, чтобы нравиться ему больше всех остальных женщин и уберечь его от них, превратила всю ее жизнь в непрерывную борьбу, которую она вела с помощью кокетства. Она неустанно боролась за него и ради него оружием своего изящества, элегантности, красоты. Ей хотелось, чтобы всюду, где он мог услышать разговоры о ней, превозносили ее обаяние, ее ум, ее вкус, ее туалеты. Она хотела нравиться другим ради него, хотела пленять других для того, чтобы он гордился ею и ревновал. И каждый раз, когда она чувствовала, что он ревнует, она, помучив его немного, доставляла ему торжество, которое, подстрекая его тщеславие, оживляло его любовь.
Потом она поняла, что мужчина всегда может встретить в свете женщину, чье физическое очарование, в силу своей новизны, окажется сильнее, и стала прибегать к другим средствам: она льстила ему и баловала его.
Постоянно, тактично, она расточала ему хвалы, она кружила ему голову восхищением и окутывала его фимиамом поклонения, чтобы в любом другом месте дружба и даже нежность казались ему холодноватыми и недостаточными, чтобы он в конце концов убедился, что если другие женщины его и любят, то ни одна из них не понимает его всецело, так, как понимает она.