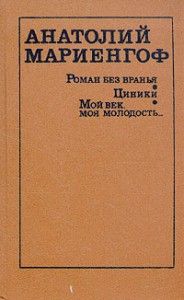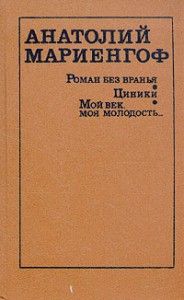В конце концов мы оба приходим к заключению, что после латинян о Пушкине смешно говорить даже под пьяную руку.
«Баловень муз» мычит презрительно:
Зима… Крестьянин торжествуя…
На дровлях… обновляет… путь…
Его лошадка… снег почуя…
Плетется рысью как-нибудь…
Товарищ Мамашев спит рядом с могучей вымястой бабой на голом, в провонях, матраце. Женщина в увядшем горностае роняет слезу о своем друге – Анатоле Франсе. Пожарный, оборвав крючки на ее выцветшем атласном лифе, запускает красную пятерню за блеклое венецианское кружево. После непродолжительных поисков он вытаскивает худую, длинную, землистую грудь, мнет ее, как салфетку, и целует в сморщенный сосок.
15
Метель падает не мягкими хлопьями холодной ваты, не рваными бумажками, не ледяной крупой, а словно белый проливной ливень. Снег над городом – седые космы старой бабы, которая ходит пятками по звездам.
Пошатываясь, я пересекаю улицу. В метельной неразберихе натыкаюсь на снежную память. Сугробище гораздо жестче, чем пуховая перина. Я теряю равновесие. Рука хватается за что-то волосатое, твердое, обледенелое.
Хвост! Лошадиный хвост!
Я вскрикиваю, пытаюсь подняться и раздираю до крови вторую руку об оскаленные, хохочущие, мертвые лошадиные десны. Вскакиваю. Бегу. Позади дребезжит свисток.
Метель вздымает меховые полы моей шубы. Я, наверное, похож на глупую, прикованную к земле птицу с обрезанным хвостом.
Вот и наш переулок. Он узок, ровен и бел. Будто упала в ночь подтаявшая стеариновая свеча. В окне последнего одноэтажного домика загорелся свет: подожгли фитиль у свечи.
Кто это там живет?
Я долго и безуспешно роюсь в карманах, отыскивая ключ от английского замка входной двери.
Какая досада! Должно быть, потерял у трупа. Надо непременно завтра или послезавтра отправиться на то место и поискать. Мертвая лошадь, на самый худой конец, полежит еще дня три.
Но кто же все-таки благоденствует в одноэтажном домике? Ах! и как это я мог запамятовать. Под крышей, обрамленной пузатыми амурами, проживает очаровательная Маргарита Павловна. Я до сих пор не могу забыть ее тело, белое и гибкое, как итальянская макарона. Не так давно Маргарита Павловна вышла замуж за бравого постового милиционера из 26-го отделения. Я пробегаю церковную ограду, каменные конюшни, превращенные в квартиры, и утыкаюсь в нашу дверь. Звоню.
По коридору шлепают мягкие босые ноги. Мне делается холодно за них.
Б-р-р-р-р!
Щелкает замок. Из-за угла выскакивает метель. Я открываю рот, чтобы извиниться перед Марфушей, и не извиняюсь…
Метель выхватывает из ее рук дверь, врывается в коридор, срывает с голых, круглых, как арбузы, плечей зипунишко (кое-как наброшенный спросонья) и вспузыривает над коленными плошечками розовую, широкую, влажноватую ночным теплом рубаху.
Слова и благоразумие я потерял одновременно.
16
Ольга почему-то не осталась ночевать у Сергея. Она вернулась домой часа в два.
Я слышал, с оборвавшимся дыханием, как повернулся ее ключ в замке, как бесшумно, на цыпочках, миновала она коридор, подняла с пола мою шубу и прошла в комнаты.
Найдя кровать пустой, она вернулась к Марфушиному чуланчику и, постучав в перегородку, сказала:
– Пожалуйста, Владимир, не засыпайте сразу после того, как «осушите до дна кубок наслаждения»! Я принесла целую кучу новых стихов имажинистов. Вместе повеселимся.
17
Тифозники валяются в больничных коридорах, ожидая очереди на койки. Вши именуются врагами революции.
18
Из Прикаспия отправлено в Москву верблюжье мясо.
19
В воскресенье в два часа дня в Каретном ряду состоялась торжественная закладка Дворца Народа. Разрабатывается проект постройки при Дворце театра на пять тысяч человек, который по величине будет вторым театром в Европе.
20
Все семейство в сборе: Ольга сидит на диване, поджав под себя ноги, и дымит папиросой; Марфуша возится около печки; Сергей собирает шахматы.
Он через несколько дней уезжает на фронт. Несмотря на кавалерийские штаны и гимнастерку, туго стянутую ремнем, вид у Сергея глубоко штатский. Он попыхивает уютцем и теплотцой, точно старинная печка с изразчатыми прилепами, валиками и шкафными столбиками.
Я выражаю опасение за судьбу родины:
– У тебя все данные воевать по старому русскому образцу.
И рассказываю о кампании 1571 года, когда хитрый российский полководец, вышедший навстречу к татарам с двухсоттысячной армией, предпочел на всякий случай сбиться с пути.
– А точный историк возьми да и запиши для потомства: «сделал он это, как полагают, с намерением, не смея вступить в битву».
Сергей спрашивает:
– Хочешь, я дам записку, чтобы тебя взяли обратно в приват-доценты? Все, что тебе необходимо выболтать за день, – выбалтывай с кафедры.
Я соглашаюсь на условие и получаю пространную записку к Анатолию Васильевичу.
Сергей очень ловко исполнил Ольгину просьбу. Мне самому не хотелось тревожить высокопоставленного братца.
Мы приятничаем горячим чаем. Марфуша притащила еще охапку мелко нарубленных дров. Она покупает их фунтами на Бронной.
21
Жители Бурничевской и Коробинской волости Козельского уезда объявили однодневную голодовку, чтобы сбереженный хлеб отправить «красным рабочим Москвы и Петрограда».
– Мечтатель.
– Кто?
– Мечтатель, говорю.
– Кто?
– Да ты. По ночам, должно быть, не спишь, воображая себя «красным Мининым и Пожарским».
Ольга мнет бровь:
– Пошленьким оружием сражается Владимир.
– Имею основания предполагать, что, когда разбушевавшаяся речонка войдет в свои илистые бережочки, весь этот «социальный» бурничевско-коробинский «патриотизм» обернется в разлюбезную гордость жителей уездного лесковского городка, которые следующим образом восторгались купцом своим, Никоном Родионовичем Масленниковым: «Вот так человек! Что ты хочешь, сичас он с тобою может сделать; хочешь в острог тебя посадить – посадит; хочешь плетюганами отшлепать или так, в полицы розгами отодрать – тоже сичас он тебя отдерет. Два слова городничему повелит или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь – сичас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого себе человека имеем».
22
Прибыло два вагона тюленьего жира.
23
За заставы Москвы ежедневно тянутся вереницами ломовые, везущие гробы. Все это покойники, которых родственники везут хоронить в деревню, так как на городских кладбищах, за отсутствием достаточного числа могильщиков, нельзя дождаться очереди.
24
Поставленный несколько дней тому назад в Александровском саду памятник Робеспьеру разрушен «неизвестными преступниками».
25
Сергей – в собственном салон-вагоне из бывшего царского поезда – уехал «воевать».
26
Сегодня утром Ольга вспомнила, что Сергей уехал «в обыкновенных нитяных носках».
Я разделил ее беспокойство:
– Если бы у наполеоновских солдат были теплые портянки, мы с вами, Ольга, немножко хуже знали бы географию. Корсиканцу следовало наперед почитать ростопчинские афиши. Градоправитель не зря болтал, что «карлекам да щеголкам… у ворот замерзать, на дворе аколевать, в сенях зазебать, в избе задыхатся, на печи обжигатся».
Ольга сказала:
– Едемте на Сухаревку. Я не желаю, чтобы великая русская революция угодила на остров Святой Елены.
– Я тоже.
– Тогда одевайтесь.
Я подошел к окну. Мороз разрисовал его причудливейшим серебряным орнаментом: Египет, Рим, Византия и Персия. Великолепное и расточительное смешение стилей, манер, темпераментов и воображений. Нет никакого сомнения, что самое великое на земле искусство будет построено по принципу коктейля. Ужасно, что повара догадливее художников.
Я дышу на стекло. Ледяной серебряный ковер плачет крупными слезами.
– Что вас там интересует, Владимир?
– Градусы.
Синенькая спиртовая ниточка в термометре короче вечности, которую мы обещали в восемнадцать лет своим возлюбленным.
Я хватаюсь за голову:
– Двадцать семь градусов ниже нуля!
Ольга зло узит глаза:
– Наденьте вторую фуфайку и теплые подштанники.
– Но у меня нет теплых подштанников.
– Я вам с удовольствием дам свои.
Она идет к шкафу и вынимает бледно-сиреневые рейтузы из ангорской шерсти.
Я нерешительно мну их в руках:
– Но ведь эти «бриджи» носят под юбкой!
– А вы их наденете под штаны.
С придушенной хрипотцой читаю марку:
– «Loow Wear»…
– Да, «Loow Wear».
– Лондонские, значит…
Ольга не отвечает. Я мертвеющими пальцами разглаживаю фиолетовые бантики.
– С ленточками…
Она поворачивает лицо:
– С ленточками.
Брови повелительно срастаются:
– Ну?
Я еще пытаюсь отдалить свой позор. Выражаю опасения:
– Маловаты…
В горле першит:
– Да и крой не очень чтобы подходящий… Треснут еще, пожалуй.