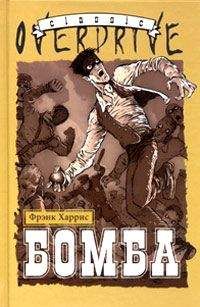— Позвольте мне написать о том, через что я прошел, — сказал я Голдсмиту. — В конце концов, кирка и лопата не менее интересны, чем меч и кольчуга, и уж точно, рыцари былых времен, отправляясь драться с драконами, не встречали на своем пути такой ужас, как сжатый воздух.
— Сжатый воздух? — переспросил он. — О чем это вы? Ну же, рассказывайте.
У него оказался отличный нюх на сенсации, и я рассказал ему свою историю, однако я не мог остановиться только на своей работе в кессоне. Я рассказал ему практически обо всем, но как будто поучая его (в моей привычной немецкой манере), а не просто излагая факты; я рассказал ему о тяжелом, тем более тяжелом в американском климате, изнурительном физическом труде, превращающем человека в бездушную скотину. К вечеру устаешь так, что не можешь ни думать, ни интересоваться событиями, происходящими в мире. Рабочие редко читают газеты; их единственная духовная пища — воскресные газеты, в будние дни они работают, едят и спят. Условия труда в Америке таковы, что они формируют пролетариат, готовый взбунтоваться. Любому человеку нужен отдых, нужно время, чтобы наслаждаться жизнью. А у рабочего нет времени даже для того, чтобы восстановить силы. Он не смеет заикнуться о выходном дне, потому что может потерять работу, и уж тогда у него будет больше свободного времени, чем ему нужно.
Мои высказывания, похоже, задели доктора, однако его заклинило на кессоне.
— Напишите все, что хотите, о своей безработной жизни, — попросил он, — но закончите работой в кессоне. Кое-что мне об этом известно. Подрядчики получат примерно шестьдесят миллионов долларов, хотя, как я думаю, весь проект стоит не больше двадцати. Тем временем я наведу справки и прибавлю к вашей статье кое-какие цифры.
— Неужели можно сделать на контракте двести процентов? — спросил я, на мгновение забыв о своем ирландском боссе, который жаждал двойного барыша да еще «сколько обломится» на лжи.
— Конечно, — ответил Голдсмит. — Конкурентов, желающих получить большой заказ, немного, если они вообще есть, но два-три человека, которые хотят и могут работать, готовы к борьбе.
Вскоре мне стало ясно, что наша конкурентная система в сущности организованное надувательство.
Ушел я с твердым желанием написать целую серию статей. Пока я говорил с Голдсмитом, во мне окончательно созрело решение не возвращаться на дорогу; к тамошней бездумной, неинтересной, отупляющей работе и отвратительной коррупции. Всего час я беседовал с образованным человеком, и это навсегда отвратило меня от прежней жизни. Мне была ненавистна даже мысль о встрече с боссом, который нагло врал мне в лицо. Не надо мне встречаться с ним. Меня потянуло к книгам, к чистой одежде, к привычным занятиям науками.
Я снял комнаты в другом районе восточной части города, которые вместе с завтраком и чаем стоили десять долларов в неделю, и взялся за работу. Вскоре я обнаружил, что кирка и лопата в мороз и дождь практически лишили меня возможности работать пером. Мой мозг страдал от переутомления, я с трудом подбирал слова, и мне все время хотелось спать. Мыслительный процесс тоже требует упражнений, иначе он стопорится. Однако после пары недель я стал писать свободнее и за месяц сочинил серию статей на немецком языке о своем эмигрантском опыте, которые отослал Голдсмиту. Статьи ему понравились, он даже сказал, что они замечательные, и дал мне за них сто долларов. Когда я получил его письмо, то понял, что наконец-то прибился к нужному берегу, нашел то, что мне требовалось. Мои статьи стали своего рода сенсацией, и, когда они вышли в свет в виде брошюры, я получил еще двести долларов. Еще три-четыре месяца мне не составляло труда, бродя по Нью-Йорку и оглядываясь кругом, находить темы для двух-трех статей в неделю. Правда, за них мне платили меньше, но после всего пережитого двадцать — двадцать пять долларов в неделю было больше чем достаточно для меня.
Кроме того, мне казалось, что я решил проблему. Мне ничего не стоило заработать себе на жизнь киркой и лопатой, если не получится пером. Я как будто стал хозяином своей судьбы.
Однажды по дороге в редакцию «Vorwдrts» я натолкнулся на Рабена. Естественно, мы тотчас отправились в немецкий ресторанчик поблизости и заказали настоящий немецкий обед и много немецкого пива. Ему повезло почти сразу получить постоянную работу, однако зарабатывал он мало и сказал, что хочет перебраться в Чикаго, где платят больше, вот только не может бросить девушку, с которой познакомился в Нью-Йорке.
—Она настоящий персик, — проговорил он, и я в первый раз обратил внимание на его чувственные, толстые губы.
Пока он говорил, мне пришло в голову, что я тоже с удовольствием отправился бы на Запад открывать новые земли. Те проклятые месяцы, когда я не мог найти работу, заронили во мне неприязнь к Нью-Йорку. Глубоко внутри души все еще оставалось много горечи и обиды.
— Я бы тоже поехал в Чикаго, — сказал я Рабену. — Ты можешь с кем-нибудь меня познакомить?
— Конечно, — ответил тот. — С Огастом Спайсом, владельцем и редактором «Arbeiter Zeitung». Он отличный парень, тоже саксонец, из Дрездена, и наверняка возьмет тебя. Вы, южные немцы, все держитесь друг за друга.
Я попросил бумагу и ручку, и он при мне, в ресторанчике, написал рекомендательное письмо Спайсу.
В тот же вечер, кажется, я отправился к доктору Голд-смиту и спросил, могу ли я посылать ему раз в неделю статью из Чикаго о рынке труда, например, и мы тотчас договорились, что он будет платить десять долларов за статью в две колонки, то есть за две или три тысячи слов — не так уж и много. Однако его десять долларов спасали меня от нищеты, а это главное. На другой день я упаковал вещи и поехал в Чикаго.
Долгий путь на поезде и огромные пространства за окошком как будто отодвинули нью-йоркскую жизнь на задворки сознания. В Нью-Йорк я приплыл неотесанным юнцом, переполненным непонятными надеждами и непомерными амбициями; а покидал его мужчиной, который знал свои возможности, хотя еще не очень разбирался в своих желаниях. Чего я тогда хотел? Чтобы жизнь была полегче, а платили побольше — это было бы неплохо. Но чего еще? Бродя по улицам, я обратил внимание, что девушки и женщины в Нью-Йорке симпатичнее, утонченнее и лучше одеты, чем те, которых я привык видеть в Германии. У многих были черные глаза и волосы, а черные глаза влекли меня к себе неодолимо. Девушки выглядели гордыми и самоуверенными, казалось, не замечали меня, но это, как ни странно, еще сильнее влекло меня к ним. Теперь, когда борьба за выживание несколько ослабла, я попытаюсь, сказал я себе, познакомиться с какой-нибудь симпатичной девушкой и наверстать упущенное. Как получается, недоумевал я, что жизнь всегда дарит нам то, что мы хотим? Можно вообразить красавицу, придумать глаза, кожу, фигуру по своему вкусу, потом немножко потерпеть — и жизнь пошлет вам ваш идеал. В нашем мире сбываются все молитвы; и это одна из трагедий нашей жизни. Однако в то время я ничего такого не знал. Я просто сказал себе, что если могу без запинки говорить по-английски, то почему бы мне не влюбиться в какую-нибудь симпатичную девушку и не завоевать ее любовь. Конечно, еще надо узнать насчет положения рабочих в Чикаго, чего, собственно, от меня ждал Голдсмит в еженедельных статьях, значит, я должен научиться в совершенстве говорить и писать по-английски. В своих мыслях я уже называл себя американцем, до того сильно влекла меня к себе великая страна беззаботной свободы и кулачного равенства. В одном ее имени были и сила, и непохожесть на другие страны. Когда-нибудь я стану американцем; и в моем воображении появилось лицо девушки — утонченное, смуглое, вызывающее, своевольное...
За год работы на свежем воздухе я закалился как сталь. Теперь, стоило мне подумать о поцелуе или объятии, и я весь напрягался. Я даже осмотрел себя всего с головы до ног. Одет я был грубовато, но неплохо, ростом тоже не подкачал, примерно пять футов и девять дюймов, сбит крепко, плечи широкие, волосы светлые, глаза голубые, пробивающиеся усики как будто темно-золотистого цвета. Она тоже полюбит меня; она... у меня кровь вскипела в жилах, в висках застучали барабаны. Я встал и пошел по вагону, чтобы немного остудиться; я шел, не чуя под собой ног, не пропуская взглядом ни одну женщину. Надо было почитать, чтобы справиться с собой, но все равно еелицо не исчезало.
Проведя в поезде сорок часов, в Чикаго я приехал поздно вечером. Усталым, правда, я себя не чувствовал, поэтому, не желая даром тратить деньги, сразу отправился к Спайсу, оставив вещи в камере хранения. Спайс был в редакции «Arbeiter Zeitung». Его кабинет показался мне меньше и скромнее, чем кабинет доктора Голдсмита, однако сам Спайс произвел на меня самое замечательное впечатление.
Физически это был красивый, хорошо сложенный человек немного выше меня ростом, хотя, наверное, не очень сильный. Чувствовалось, что он хорошо образован, а по-английски говорил, почти как на родном языке, хотя и с небольшим немецким акцентом. У него было приятное лицо, густые вьющиеся волосы, синие глаза и длинные усы, треугольная аккуратная бородка подчеркивала треугольное строение его лица. Понемногу мне стало ясно, что он человек эмоциональный и сентиментальный. Кстати, у него был округлый мягкий подбородок, почти девичий. Встретил он меня с откровенной добротой, мгновенно меня очаровавшей; сказал, что читал мои статьи в «Vorwдrts» и рассчитывает тоже получать от меня статьи. «Мы не богаты, — сказал он, — но я буду платить вам, и вы будете расти вместе с газетой», — со смехом добавил он.