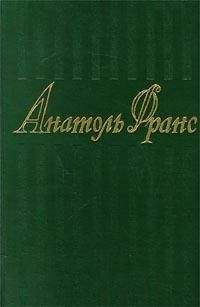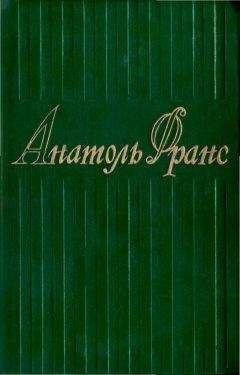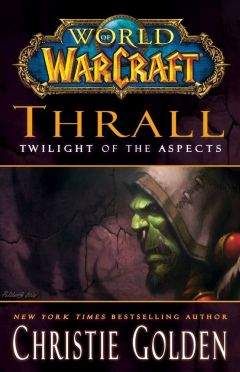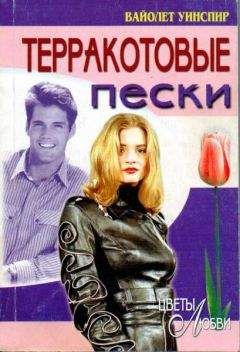Монтессюи ценил в Наполеоне любовь к порядку.
— Ему нравилось, когда дело делали хорошо. Сейчас к этому потеряли вкус.
Художник Дювике, который и мыслил как художник, находился в затруднении. В маске Наполеона, привезенной с острова Св. Елены, он не видел знакомых черт прекрасного и властного лица, сохраненного благодаря медалям и бюстам. В разнице легко было убедиться теперь, когда бронзовые копии маски, извлеченные, наконец, с чердаков, висели у всех старьевщиков среди орлов и сфинксов из золоченого дерева. И, по его мнению, раз уж подлинное лицо Наполеона оказывается не наполеоновским, то и подлинная душа Наполеона может быть не наполеоновской. Пожалуй, это душа какого-нибудь доброго буржуа: кое-кто уже высказывается в этом смысле, и он склоняется к такому взгляду. Впрочем, Дювике, мнивший себя портретистом своего века, знал, что знаменитые люди не бывают похожи на сложившиеся о них представления.
Даниэль Саломон заметил, что маска, о которой говорил Дювике, — маска, снятая с безжизненного лица императора и привезенная в Европу доктором Антомарки[27], — впервые была отлита в бронзе и распространена по подписке в 1833 году, при Луи-Филиппе, и что тогда же она возбудила и удивление и недоверие. Этого итальянца, настоящего аптекаря из комедии, болтливого и жадного, подозревали в том, что он сыграл злую шутку. Ученики доктора Галля[28], система которого была тогда в чести, считали маску сомнительной. Они не находили в ней шишек гениальности, а лоб, исследованный согласно теории их учителя, не представлял по своему строению ничего замечательного.
— Вот именно, — сказала княгиня Сенявина, — Наполеон замечателен только тем, что ударил Вольнея ногой в живот и что он крал табакерки, украшенные бриллиантами. Господин Гарен сейчас открыл нам эту истину.
— И к тому же, — сказала г-жа Мартен, — еще не вполне установлено, ударил ли он его.
— Чего только со временем не узнаешь! — весело продолжала княгиня. — Наполеон вообще ничего не сделал: он даже не ударил Вольнея ногой в живот, и у него была голова кретина.
Генерал Ларивьер почувствовал, что пора выступать и ему. Он бросил такую фразу:
— Наполеоновский поход тысяча восемьсот тринадцатого года представляется очень спорным.
На уме у генерала было угодить Гарену, и ничего другого на ум не приходило, все же, после некоторого усилия, ему удалось высказать и более общее суждение:
— Наполеон совершал ошибки: при его положении ему не следовало их совершать.
И он умолк, сильно покраснев.
— А вы, господин Ванс, что вы думаете о Наполеоне?
— Сударыня, я не особенно люблю рубак и головорезов, а завоеватели представляются мне просто-напросто опасными безумцами. И все же образ императора занимает меня, как он занимает и публику. Я нахожу в нем своеобразие и жизненную правду. Нет поэмы, нет романа приключений, которые сравнились бы с «Мемориалом»[29], хотя он и написан довольно нелепо. О Наполеоне же, если хотите знать, я думаю, что, созданный для славы, он явился в блистательной простоте эпического героя. Герой должен быть человечен, а Наполеон и был человечен.
— О-о! — раздались голоса.
Но Поль Ванс продолжал:
— Он был резок и легкомыслен и тем самым глубоко человечен, то есть подобен всякому человеку. Он с необычайной силой желал того, что ценит, чего желает большинство людей. Он сам питал иллюзии, которые внушил народам. В этом была его сила и слабость, его красота. Он верил в славу. О жизни и о вселенной он думал приблизительно то же, что думал о ней какой-нибудь его гренадер. Он навсегда сохранил ту ребяческую серьезность, что тешится саблями и барабанами, и ту особую наивность, без которой не бывает настоящего военного. Он искренно уважал силу. Прежде всего он был человек, плоть от плоти человечества. Не бывало у него мысли, которая не становилась бы поступком, а все его поступки были велики и заурядны. Такое грубое величие и создает героев. И Наполеон — совершенный герой. Его мозг всегда был под стать его руке, этой маленькой и красивой руке, переворошившей весь мир. Он ни одной минуты не беспокоился о том, чего не мог бы достичь.
— Так по-вашему, — сказал Гарен, — это не интеллектуальный гений? Я с вами согласен.
— Он, разумеется, — продолжал Поль Ванс, — обладал тем гением, который нужен, чтобы блистать на гражданской и военной арене мира. Но у него не было гения философского. Этот вид гения — «совсем другая пара манжет», как говорит Бюффон[30]. Мы располагаем собранием его сочинений и речей. В стиле их есть и движение и образность. Но среди этой груды мыслей не встречается ничего философски примечательного, не видно никакого влечения к непостижимому, никакой тревоги о тайне, окутывающей нашу судьбу. Когда на острове Святой Елены он рассуждает о боге и о душе, то кажется, будто перед нами славный четырнадцатилетний школьник. Душа его, брошенная в мир, пришлась по мерке миру и охватила его целиком. Ни одна частица его души не затерялась в бесконечности. Поэт, он знал только поэзию действия. Свою могучую мечту о жизни он ограничил земным. В своем страшном и трогательном ребячестве он полагал, что человек может быть великим, и эта детская вера не покидала его даже наперекор годам и бедствиям. Его молодость, или, точнее, его божественная юность, продолжалась всю жизнь, ибо дни этой жизни так и не сложились вместе, чтобы образовать сознательную зрелость. Вот изумительное свойство людей действия. Они всецело во власти той минуты, которую переживают, и гений их сосредоточивается на чем-нибудь одном. Они сами обновляются непрестанно, и в их жизни ничто не длится. Часы их бытия не связаны цепью важных отвлеченных раздумий. Они не продолжают жить, они сменяют самих себя в ряде поступков. Зато у них и нет внутренней жизни. Этот недостаток особенно чувствуется в Наполеоне, который никогда не жил в себе самом. Отсюда — та легкость характера, которая помогла ему вынести огромное бремя бедствий и собственных ошибок. Его душа, вечно новая, возрождалась каждое утро. Он более чем кто бы то ни было обладал способностью развлекаться. В первый же раз, как он увидел восход солнца над траурным утесом Святой Елены, он соскочил с постели, насвистывая мотив какого-то романса. То было спокойствие сердца, возвышающееся над судьбой, главное же — то была легкость духа, всегда готового возродиться. Он жил во вне.
Гарен, которому не нравилась такая изощренность мысли и речи, поспешил подвести итог.
— Словом, — сказал он, — в этом человеке были черты чудовища.
— Чудовищ не существует, — возразил Поль Ванс. — А люди, которые слывут чудовищами, вызывают ужас. Наполеона же любил целый народ. Его сила и заключалась в том, что он всюду на своем пути возбуждал любовь. Для солдат было радостью умереть за него.
Графине Мартен хотелось, чтобы Дешартр тоже высказал свое суждение. Но он даже с некоторым испугом уклонился от этого.
— Знакома ли вам, — спросил Шмоль, — притча о трех кольцах, плод божественного вдохновения одного португальского еврея?
Гарен, хотя и делал Полю Вансу комплименты по поводу его блестящего парадокса, сожалел, что остроумие его проявляется в ущерб морали и справедливости.
— Есть правило, — сказал он, — что мужчин надо судить по их поступкам.
— А женщин? — живо спросила княгиня Сенявина. — Вы их тоже судите по поступкам? А почем вы знаете, что они делают?
Звуки голосов сливались со светлым звоном серебра. В комнате было жарко и душно. Лепестки отяжелевших роз сыпались на скатерть. В зарождавшихся мыслях было теперь больше остроты.
Генерал Ларивьер предался мечтам.
— Когда я выйду в отставку, — сказал он своей соседке, — я уеду жить в Тур. Я там буду разводить цветы.
И он похвастался, что он хороший садовод. Его именем назвали какой-то сорт роз. И это ему льстило.
Шмоль еще раз спросил, знакома ли кому-нибудь притча о трех кольцах.
Между тем княгиня дразнила депутата:
— Так вам неизвестно, господин Гарен, что одни и те же поступки совершаются по самым разным причинам?
Монтессюи был согласен с ней.
— Совершенно верно! Как вы и сказали, княгиня, поступки ничего не доказывают. Эта мысль поражает нас в связи с одним эпизодом из жизни Дон-Жуана, неизвестным ни Мольеру, ни Моцарту, но сохранившимся в английской легенде, которую я узнал от моего лондонского друга Джемса Лоуэлла. Там говорится, что великий соблазнитель лишь с тремя женщинами даром потерял время. Первая из них была простая горожанка — она любила своего мужа; вторая была монахиня — она не согласилась нарушить обет. Третья долго вела распутную жизнь, уже подурнела и просто была служанкой в притоне. После всего, что она делала, после всего, что она видела, любовь для нее уже не значила ничего. Эти три женщины повели себя совершенно одинаково в силу весьма различных причин. Поступок сам по себе ничего не доказывает. Лишь вся совокупность поступков, их вес, их сочетание определяют ценность человеческого существа.