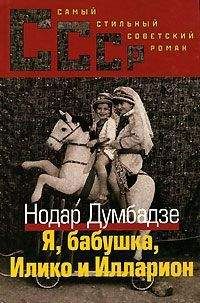— А что говорит Гитлер?
— Гм, Гитлер… Гитлер уже дважды объявлял по радио о взятии Сталинграда, да разве Японию проведешь? Это такая хитрая бестия… Нет, плохи их дела!..
— Дай бог!.. Налей, Зурикела!
Мы поднимаем стаканы и пьем за победу, за тех, кто на фронте, за мир.
— А я стихи вчера написал! — вдруг выпалил я. — А ну, прочти!
Илларион от неожиданности выронил кусок ветчины. Я нерешительно взглянул на Илико. Илико поперхнулся вином и посинел, как петушиный желудочек. — Валяй, валяй, теперь уже все равно! — сказал он.
— Что ты сказал? — спросил, отдышавшись, Илико.
Илико и Илларион переглянулись.
— Ну-ка, прочитай, пожалуйста! Я достал из кармана лист бумаги, встал, выпрямился, протянул вперед левую руку и как можно громче начал:
Враг коварный, враг проклятый, Он на нас ползет войной! Не бывать ему с победой, — Мы дадим смертельный бой!
Герои наши не дремлют… Гремят наши пушки и танки, А если потребует Родина, Я смело пойду в атаку! закончил я и с трепетом стал ждать приговора.
— Мда-а-а… Написано довольно того… громко! сказал Илларион после получасовой паузы.
— Это еще ничего, можно прочесть и тише… Но что с ним теперь будете — ответил Илико, с сожалением глядя на меня.
— Скажи-ка, давно тебя тянет к стихам? — спросил меня Илларион.
— Уже месяц! — сказал я.
— Где же ты был до сих пор, несчастный, вовремя не мог сказать, что ли? А теперь что делать будем? Бабушку твою бедную жалко мне, а я-то раньше знал, что в один прекрасный день ты все равно а цепи сорвешься! — сказал Илико и махнул рукой.
— Ну и как, легко они даются тебе?
— Ничего… За день сочиняю восемь-девять таких стихов! Бумаги нет, а то больше написал бы!
— Мало! — сказал Илико.
— Бабушка знает про твое стихоплетство? — спросил Илларион. Неожиданный вопрос застал меня врасплох.
— Нет.
— Ну так и не говори ей. Хватит старушке и другого горя… У тебя есть еще стихи?
— Есть. О любви…
— А ну, прочти!
Я нерешительно взглянул на Илико.
— Валяй, валяй, теперь уже все равно! — сказал он,
Я достал из кармана второй лист бумаги и начал потише:
Ночь, Луна плывет но небу, Снег и ветер, час ненастья. Я люблю гулять средь ночи, Слезы лью я, слезы счастья. Не могу сомкнуть я очи, Ошалел совсем я, братья!
Молчание длилось добрых пять минут. Илико и Илларион смущенно переглянулись.
— Что ты скажешь? — спросил наконец Илларион.
— Последняя строчка хорошо написана, с чувством…
— Но он говорил, что стихи — про любовь. Почему же о любви нет ни слова?
— Стесняется парень!
— Это же стихи, Илларион! В стихах всего не скажешь! — попытался разъяснить я.
— Во-первых, это такие же стихи, как я шах персидский! А во-вторых, если стихи про любовь, нужно хоть упомянуть про эту любовь.
— А ну тебя! Человеку не спится, он бродит по ночам и с ума сходит: что это, по-твоему, если не любовь?! — разозлился я.
— Ну, знаешь, дорогой мой. Илико всю свою жизнь был сумасшедшим, и бродит он больше ночью, чем днем, так он тоже влюблен? Как ты думаешь? — сказал Илларион.
— Эй ты, старик, языку волю не давай! — вскочил Илико. Мальчишка нацарапал какую-то чушь, при чем тут я! Спрячь сейчас же свою мазню, негодяй! — набросился он на меня.
— Погодите, сперва разберем стихи! — остановил его Илларион. Вот у тебя сказано: луна по небу плывет, и тут же — снег, буран. Как же это? А? Неожиданный вопрос застал меня врасплох.
— И еще. Вот ты говоришь: бессонница у тебя, ветер, снег, ненастье, мир рушится. Чему же ты радуешься? От какого такого счастья у тебя слезы льются, болван?! — Да что вы в стихах понимаете, из ума вы оба выжили! — обиделся я. Илико разлил вино. Илларион поднял стакан, привлек меня к себе и сказал ласково: — Другая у тебя, дорогой мой, беда… Знаю я, отчего люди становятся поэтами… Когда я был мальчишкой, вроде тебя, я тоже сочинял стихи. Помнишь, Илико?
Без нее я жить не буду! Застрелюсь я! Где патроны, Огонь любви меня сжигает, Свет не мил мне без Матрены!
Илико утвердительно кивнул головой и захихикал,
— Тогда я и тебя принял за сумасшедшего, но потом все прошло… Так и с ним будет!
— Вот так-то, сынок… А стихи ты пиши! За это людей не наказывают… Твоей девчонке, если она такая же дура, вроде тебя, может, и понравится. А не понравятся — не горюй. Эта маленькая пташка — любовь — только что снесла яичко в твоем сердце. Пройдет время — вылупятся птенчики, оперятся, полетят. А потом — айда… Будешь бродить по свету влюбленный… За твою любовь, мой мальчик! Я стоял смущенный, с опущенной головой и молча слушал Иллариона… И мне казалось, что он бережно держал на ладони мое сердце и читал все, что там было написано.
— Чигогидзе!
— Здесь!
— Каландадзе!
— Я здесь!
— Сихарулидзе!
— Сихарулидзе заболел! Чкония, Центерадзе, Бурчуладзе, Коридзе, Нинидзе и Глонти пошли провожать его.
— Пошли бы уж всем классом… — сказал сердобольный учитель. Вашаломидзе! Вашаломидзе!! Ваша-ло-ми-дзе!!! — надрывался учитель и стучал по столу кулаком.
— Здесь я, уважаемый учитель!
— Будешь ты здесь или не будешь, все равно от этого мало пользы!
— «Быть или не быть, вот в чем вопрос!» — патетически изрек Ромули.
— Ромули Каландадзе, изволь выйти из класса!
— Холодно, учитель!
— Бери свою долю дров и убирайся! — поддержал я учителя. Ромули вышел, бросив на меня испепеляюший взгляд. А над моей головой разразилась страшная гроза.
— Вашаломидзе, что было задано на сегодня?
— Применение соды…
— Ну, пожалуй-ка отвечать!
Я удрученно поплелся к доске.
— Слушаю вас!
— Существует несколько способов применения соды, — начал я. Илико Чигогидзе, к примеру, насыпает соду на кончик языка и глотает прямо без воды; Илларион Шеварднадзе чайную ложку соды растворяет в стакане теплой воды, а моя бабушка…
— Вашаломидзе, убирайся вон!.. Кто живет с ним по соседству?
— Я! — встала Мери Сихарулидзе.
— После уроков отнесешь записку его бабушке…
А ты чего стал! Вон из класса!
— Я-то уйду, но кто же в классе останется?
— Выходи… — прошептал учитель, поглядывая на чернильницу.
Я поспешно удалился. Вряд ли мог так сильно обрадоваться Колумб при виде земли, как обрадовался Ромули моему появлению.
— Вытурили?
— По твоей милости!
— Вот еще! Я-то при чем? Сидишь на уроке как пень… Думаешь, я не знаю, что ты влюблен?
— В кого, дурак?
— В Мери!
— Скажешь еще раз — получишь по морде!
— А я при чем? Весь класс об этом говорит.
— Да ты обалдел! Какое время нам любить?
— Подумаешь! Бабушка моя вышла замуж в четырнадцать лет!
— Ну и что ты хочешь7
— Я ничего. Если ты хочешь, скажу ей…
— Если бы любил, сам бы сказал…
— Как же, скажешь! В любви объясниться — это тебе не урок отвечать! Здесь без письма не обойтись!
— А ты писал когда-нибудь такие письма?
— 0гo! Еще сколько!
Я испытующе взглянул на Ромули — не хитрил ли он? Но глаза Ромули светились неподдельной искренностью. Я поверил ему.
— Ромули, ты для меня все равно что родной брат… Ну, что скрывать… Помоги мне! Люблю ее, понимаешь?! Ромули даже заржал от восторга. Он крепко обнял меня, приподнял, потом опустил на землю и заявил:
— Все в порядке! Остальное — за мной!
Свободного времени у нас было хоть отбавляй. Мы забрались в пустую классную комнату. Я уселся за стол, Ромули, заложив руки за спину, зашагал взад и вперед.
— Начнем… «Моя ненаглядная, дорогая, несравненная! Любовь — это величайшее чувство. От любви человек немеет, глохнет, слепнет, теряет рассудок…»
— Неправда! — возразил я.
— Знаю, но так нужно… Продолжай: «С тех пор как я впервые увидел тебя, я познал абсолютную истину красоты. Я понял смысл своего бытия, я воспринял тебя как апофеоз духовной красоты и эстетического наслаждения…»
— Ромули, откуда ты берешь такие слова? — спросил я, потрясенный.
— Один студент из Тбилиси прислал моей сестре письмо. Он влюблен в нее.
— И что же, она собирается выйти за него замужем
— Собиралась. Но потом один наш знакомый из Тбилиси сообщил, что тот студент сошел с ума… Продолжай: «Нет смысла скрывать, я люблю тебя больше жизни. Будь моим духовным другом, молю тебя Меня лишили покоя твои глаза, ресницы, твой взгляд, твои жемчужные зубы, коралловые губы, агатовые волосы, пальцы, руки — вся ты. С тобой навеки, или смерть мне! На этом кончаю. До свидания!..»
— Ну как7 — спросил Ромули и подбоченился.