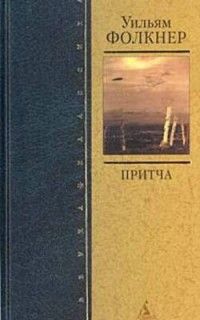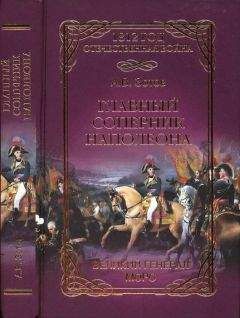— Черт! — сказал он. — Карандаш потерялся.
Следом за ним появился третий. Это был негр, совершенно черный. Вылез он с элегантностью танцовщика, не жеманной, не щегольской, не сдержанной, скорее мужественной и вместе с тем девичьей или, точнее, бесполой, и встал с почти нарочитой небрежностью; тем временем айовец повернулся, пробежал на этот раз между троими — Бухвальдом, полицейским и негром — и, держа в руке развернувшуюся карту, просунулся до пояса в машину, сказав полицейскому:
— Дай-ка фонарик. Наверно, я уронил его на пол.
— Брось ты, — сказал Бухвальд. — Пошли.
— Это мой карандаш, — сказал айовец. — Я купил его в последнем большом городе, что мы проезжали, — как он назывался?
— Могу позвать сержанта, — сказал полицейский. — Хочешь?
— Не стоит, — сказал Бухвальд. И обратился к айовцу: — Идем. Там у кого-нибудь найдется карандаш. Они тоже умеют читать и писать.
Айовец вылез, выпрямился и снова стал сворачивать карту. Вслед за полицейским они подошли к двери в подвальный этаж и стали спускаться, айовец все таращился на вздымающийся ввысь купол здания.
— Да, — сказал он. — Конечно.
Они спустились по ступенькам, вошли в дверь и оказались в узком коридоре; полицейский распахнул другую дверь, и они вошли в комнату; дверь за ними закрыл полицейский. В комнате находились стол, койка, телефон, стул. Айовец подошел к столу и стал раскладывать на нем карту.
— Ты что, не можешь запомнить, где бывал, без отметок на карте? спросил Бухвальд.
— Я не для себя, — сказал айовец, возясь с картой. — Это для девушки, с которой я помолвлен. Я ей обещал…
— Она тоже любит свиней? — спросил Бухвальд.
— …Что? — сказал айовец. Он умолк и повернул голову; не разгибаясь, бросил на Бухвальда снисходительный, открытый, уверенный и бесстрашный взгляд. — А как же? Что плохого в свиньях?
— Ладно, — сказал Бухвальд. — Ты обещал ей.
— Ну да, — сказал айовец. — Когда мы узнали, что меня отправляют во Францию, я пообещал ей взять карту и отмечать все места, где побываю, особенно о которых постоянно слышишь, вроде Парижа. Я бывал в Блуа, в Бресте и поеду в Париж за то, — что вызвался сюда, а сейчас я еще отмечу Шольнемон, главную штаб-квартиру всей этой заварухи, нужно только найти карандаш.
Он снова начал шарить по столу.
— Что ты будешь с ней делать? — спросил Бухвальд. — С картой. Когда вернешься домой.
— Вставлю в рамку и повешу на стену. А ты как думал?
— Ты уверен, что тебе будет нужна эта отметка? — спросил Бухвальд.
— Что? — сказал айовец. Потом спросил: — А что такое?
— Ты хоть знаешь, зачем вызвался?
— Еще бы. Чтобы побывать в Шольнемоне.
— И тебе никто не сказал, что придется здесь делать?
— Видно, ты недавно в армии, — сказал айовец. — Тут не спрашивают, что делать — просто делают. Вообще, в любой армии надо жить, не спрашивая, что делать или зачем это нужно, а просто делать и тут же скрываться с глаз, чтобы тебя случайно не заметили и не нашли еще дела, тогда им придется сперва придумать дело, а потом подыскать кого-нибудь для его выполнения. Черт. Кажется, и у них здесь нет карандаша.
— Может, у черного найдется, — сказал Бухвальд и взглянул на негра. — А зачем вызвался ты, не считая трехдневного отпуска в Париж? Тоже повидать Шольнемон?
— Как ты меня назвал? — спросил негр.
— Черный, — ответил Бухвальд. — Тебе не нравится?
— Меня зовут Филип Мениголт Бичем, — сказал негр.
— Ну-ну, — сказал Бухвальд.
— Пишется Мэниголт, но вы произносите Мэнниго, — сказал негр.
— Заткнись ты, — сказал Бухвальд.
— Есть у тебя карандаш, приятель? — спросил айовец у негра.
— Нет, — ответил негр, даже не взглянув на айовца. Он продолжал глядеть на Бухвальда. — А ты думаешь нагреть на этом деле руки?
— Я? — сказал Бухвальд. — Ты из какой части Техаса?
— Техаса? — с презрением спросил негр. Он взглянул на ногти правой руки, потом торопливо потер их о бок. — Я из штата Миссисипи. Как только кончится эта заваруха, уеду в Чикаго. Буду гробовщиком, если хочешь знать.
— Гробовщиком? — сказал Бухвальд. — Тебе что, нравятся покойники?
— Неужели ни у кого на этой чертовой войне нет карандаша? — спросил айовец.
— Да, — ответил негр. Высокий, стройный, он стоял, нисколько не рисуясь; внезапно он бросил на Бухвальда вызывающий и вместе с тем робкий взгляд. — Мне нравится эта работа. Ну и что?
— Потому ты и вызвался?
— Может, да, а может, и нет, — сказал негр. — А зачем вызвался ты? Не считая трехдневного отпуска в Париж?
— Потому что я люблю Вильсона, — сказал Бухвальд.
— Вильсона? — переспросил айовец. — Ты знаешь сержанта Вильсона? Это лучший сержант в армии.
— Тогда я не знаю его, — ответил Бухвальд, не глядя на айовца. — Все сержанты, каких я знаю, — это сучьи дети. — И обратился к негру: — Тебе сказали или нет?
Тут айовец стал переводить взгляд с одного на другого.
— Что тут затевается? — спросил он.
Дверь отворилась. Появился американский старшина. Он торопливо вошел и торопливо оглядел их. В руке у него был портфель.
— Кто у вас старший? — спросил он. Поглядел на Бухвальда. — Ты. — Он открыл портфель, достал оттуда что-то и протянул Бухвальду. Это был пистолет.
— Немецкий, — сказал айовец.
Бухвальд взял его. Старшина снова полез в портфель; на этот раз он достал ключ, обыкновенный дверной ключ, и протянул Бухвальду.
— Зачем? — спросил Бухвальд.
— Держи, — сказал старшина. — Не собираетесь же вы сидеть здесь вечно?
Бухвальд взял ключ и вместе с пистолетом сунул в карман.
— Что же вы, гады, не взялись сами? — спросил он.
— Мы послали за вами в Блуа не затем, чтобы препираться среди ночи, сказал старшина. — Пошли. Дело не ждет. — Он направился к двери. Тут послышался громкий голос айовца.
— Послушайте, — сказал он. — Что тут происходит? Старшина остановился, поглядел на айовца, затем на негра и сказал Бухвальду:
— Они у тебя уже робеют.
— Не волнуйся, — сказал Бухвальд. — Черный в этом не виноват, робость у него — это, так сказать, привычка, или обычай, или традиция. А другой пока и не знает, что такое робость.
— Ладно, — сказал старшина. — Это твои люди. Готовы?
— Постой, — сказал Бухвальд. Он даже не обернулся к столу, где стояли те двое, глядя на него и на старшину. — Что тут происходит?
— Я думал, вам сказали… У них с ним загвоздка. Он должен быть убит спереди, ради него же самого, не говоря о других. Но, видно, они не могут заставить его повернуться лицом. А он должен быть убит спереди, немецкой пулей — ясно? Понял теперь? Он был убит в понедельник утром, во время той атаки; ему отдадут все почести; в то утро ему там нечего было делать генерал-майор, он до конца мог оставаться позади и приговаривать «задайте им, ребята». Но нет. Он вышел вперед и повел всех к победе во имя Франции, отечества. Ему даже повесят еще один орден, только он его не увидит.
— А чего он артачится? — спросил Бухвальд. — Он ведь знает, что его песенка спета, не так ли?
— Само собой, — сказал старшина. — Он знает, что ему конец. Вопрос не в этом. Со смертью он смирился. Только не дает сделать это как нужно клянется, что вынудит застрелить себя не спереди, а сзади, словно какой-нибудь старший сержант или младший лейтенант, считающий себя слишком смелым, чтобы бояться, и слишком крепким, чтобы получить рану. Понимаешь, показать всему миру, что это не враги, а свои.
— Неужели нельзя было подержать его?
— Нет, — сказал старшина. — Нельзя держать французского генерал-майора и стрелять ему в лицо.
— Тогда как же нам быть? — спросил Бухвальд.
Старшина поглядел на него.
— А… — сказал Бухвальд. — Кажется, понял. Нельзя французским солдатам. Может, в следующий раз это будет американский генерал, и трое лягушатников совершат путешествие в Нью-Йорк.
— Да, — сказал старшина. — Только бы дали мне выбрать этого генерала. Ну, готовы?
— Да, — ответил Бухвальд, но с места не двинулся. — Но все же, почему мы? Раз это французский генерал, почему этого не сделали сами французы? Почему мы?
— Может, потому, что американский пехотинец — единственная тварь, какую можно купить поездкой в Париж, — сказал старшина. — Идем.
Но Бухвальд снова не двинулся с места; взгляд его светлых, суровых глаз был задумчив и спокоен.
— Идем, — сказал он. — Ты первый.
— Если хочешь отказаться, почему не отказался до выезда из Блуа? спросил старшина.
Бухвальд непристойно выругался.
— Веди, — сказал он. — Пора кончать.
— Верно, — сказал старшина. — Они все распределили. Французам придется расстрелять тот полк, потому что он французский. В среду пришлось везти сюда немецкого генерала, объяснять, почему они собираются расстреливать французский полк, и это досталось англичанам. Теперь им нужно застрелить французского генерала, чтобы объяснить, зачем привозили сюда немецкого, и это досталось нам. Может, они тянули жребий. Ну, все?