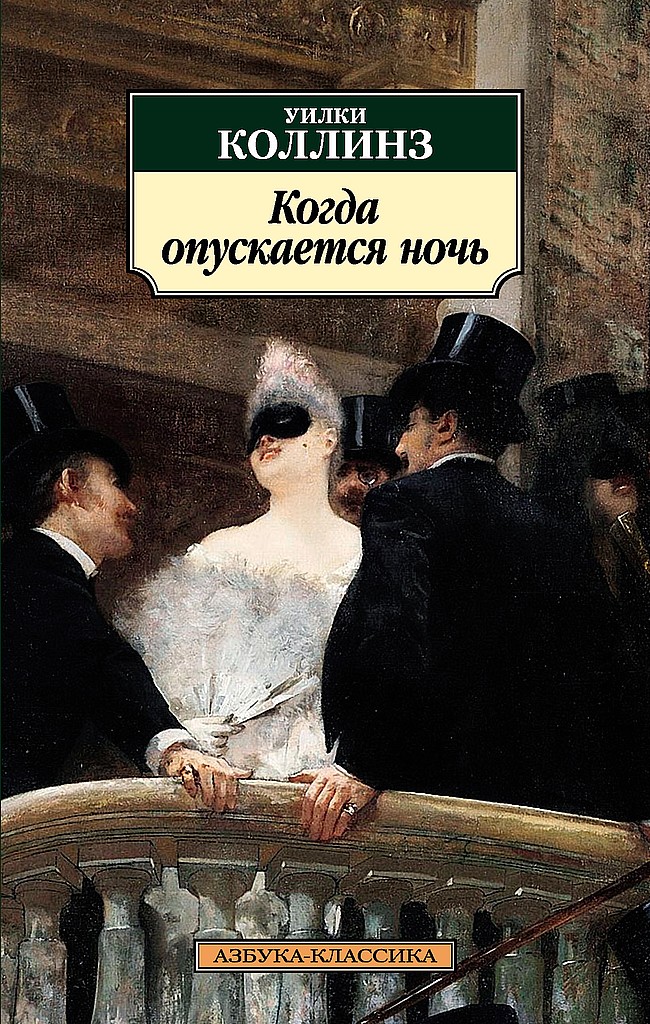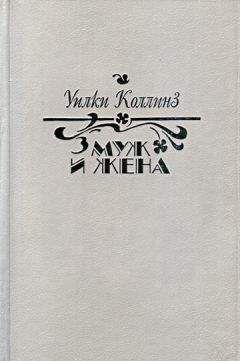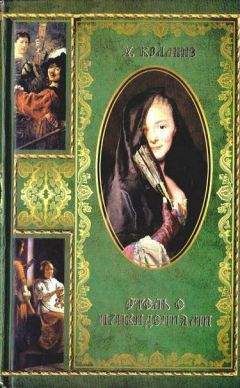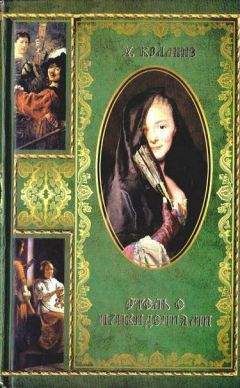на эту комическую итальянскую кличку пес отзывался при жизни [44]. Больше никаких надписей не было, однако я заключил, что пес, должно быть, был любимцем профессора и тот держал чучело животного в спальне в память о былых временах.
«Кто бы мог подумать, что у столь великого философа столь нежное сердце?!» — подумал я, покидая спальню, и вернулся вниз.
Профессор закончил завтракать и выразил желание без промедления приступить к позированию, поэтому я достал мелки и бумагу и тут же принялся за работу — я сидел на одной стопке книг, профессор на другой.
— Как вам анатомические экспонаты в моей спальне, мистер Керби, — правда, хороши? — спросил старый господин. — Заметили ли вы весьма удачный и оригинальный препарат кишечных ганглиев? Им посвящена важная глава моего великого труда.
— Боюсь, вы сочтете меня крайним невеждой, — отвечал я, — но я понятия не имею, как выглядят кишечные ганглии, и не узнаю их, если увижу. Особенное любопытство в вашей комнате вызвал у меня другой предмет, — пожалуй, он более соответствует уровню моих скромных познаний.
— Что же именно? — спросил профессор.
— Чучело пуделя. Полагаю, он был вашим любимцем?
— Моим? Нет-нет, он был любимцем одной молодой дамы еще до моего рождения — и это был поистине выдающийся пес. Полагаю, мистер Керби, жизненное первоначало у этого пуделя выражалось с исключительной силой. Он дожил до поразительно преклонных лет и был настолько умен, что сыграл важную независимую роль в одной истории из тех, какие вы, англичане, называете «романтикой реальной жизни»! Если бы я только мог препарировать этого пуделя, я бы включил его в свою книгу: с него у меня началась бы глава о жизненном первоначале у животных.
«Пожалуй, меня ждет интересный рассказ, — подумал я, — если только я не позволю профессору уклониться от темы».
— Его следовало бы упомянуть в моем великом труде, сэр, — продолжал профессор. — Скарамучча достоин занять место среди примеров, подтверждающих мою новую теорию, но, увы, он умер еще до моего рождения. Хозяйка Скарамуччи передала его — чучелом, в чем вы убедились, когда были в спальне, — на хранение моему отцу, а ко мне он перешел по наследству. Кстати, о собаках, мистер Керби: я установил вне всяких сомнений, что плечевое нервное сплетение у людей, умерших от водобоязни… однако постойте! Лучше я вам его покажу, как оно есть, препарат у меня наверху, под умывальником.
И профессор поднялся со стопки книг. Миг — и он отправил бы слугу за «препаратом», и все мои надежды услышать его рассказ пошли бы прахом. Рискуя обидеть профессора, я взмолился, чтобы он не шевелился, иначе я, чего доброго, испорчу рисунок. Это заставило его опомниться, но, к счастью, не рассердило. Он сел на место, и я снова заговорил о чучеле пуделя — отважно попросил хозяина дома рассказать мне историю, с которой был связан этот пес. У профессора из-за этой просьбы, похоже, сложилось неутешительное мнение о моих интеллектуальных пристрастиях, однако он пошел мне навстречу и поведал — не без утомительных отступлений о своем великом труде — историю, которую я предлагаю озаглавить «Желтая маска». Теперь, когда я набросал в общих чертах особенности характера и речи профессора, мне, наверное, нет нужды упоминать, что я перескажу эту историю, как и предыдущую, и «Сестрицу Розу», своими словами и в соответствии со своими представлениями о ходе сюжета, — разумеется, я не стану ничего прибавлять к фактам, однако помещу их в рамки, продиктованные уместным объемом моего сочинения.
Здесь, пожалуй, мне будет простительно добавить, что гравюры с портрета профессора я так и не увидел и даже не слышал, чтобы ее сделали. Профессор Тицци жив и здравствует, однако напрасно я просматривал списки изданных книг в поисках объявления о выпуске его ученого труда о жизненном первоначале. Вероятно, он решил добавить том-другой к уже завершенным двенадцати, дабы глубоко обязанные ему потомки рано или поздно оказались бы перед ним в еще большем долгу.
Рассказ профессора о Желтой маске
Лет сто назад жила в древнем городе Пизе одна знаменитая на всю Италию модистка, которая, желая убедить клиенток, что она знакома с последними французскими модами, стала называть себя на французский манер и представлялась мадемуазель Грифони. Это была миниатюрная сухонькая женщина с лукавым личиком, острым язычком, проворными ножками, незаурядной деловой хваткой и сомнительной репутацией. Ходили слухи, будто она баснословно богата, и сплетни, будто ради денег она готова на все.
Впрочем, мадемуазель Грифони обладала одним бесспорно положительным качеством, которое давало ей преимущество перед всеми соперницами на профессиональной ниве: она отличалась непоколебимой стойкостью. Никто никогда не видел, чтобы она и на дюйм отступила под натиском неблагоприятных обстоятельств. Поэтому тот достопамятный случай, когда она едва не потерпела полный крах, стал для нее лишь поводом продемонстрировать, сколько у нее энергии и решимости, причем продемонстрировать самым победоносным образом. Когда мадемуазель была на пике процветания, ее самая умелая помощница и закройщица вероломно вышла замуж и основала собственное дело, то есть стала ее соперницей. Для обычной модистки это бедствие стало бы катастрофой, однако непобедимая мадемуазель Грифони с невероятной легкостью преодолела все препятствия и неопровержимо доказала, что враждебная фортуна не в состоянии заставить ее исчерпать все средства. Пока менее удачливые модистки предрекали, что она закроет лавочку, мадемуазель Грифони преспокойно переписывалась с одним агентом в Париже. Содержание переписки оставалось тайной, пока по прошествии нескольких недель все пизанские дамы не получили циркуляр, где объявлялось, что управлять заведением великой Грифони отныне будет лучшая французская портниха, какую только можно нанять за деньги. Этот изящный ход и определил победительницу. Все клиентки мадемуазель решили воздержаться от заказов у других модисток, пока парижская портниха не явит уроженкам Пизы последние новинки из мировой столицы мод.
Француженка приехала точно в назначенный день — веселая, немногословная, улыбчивая, беспечная, с непроницаемо-приветливым лицом и гибкой фигуркой. Звали ее мадемуазель Виржини, и она была одна на всем белом свете, поскольку родные бессердечно отвернулись от нее. Едва ступив за порог заведения мадемуазель Грифони, она тут же принялась за дело. Ей отвели для личных нужд отдельную комнату, в ее распоряжение предоставили великолепные ткани: бархат, шелк, атлас — со всеми необходимыми дополнениями в виде муслина, кружев и лент; ей велели не останавливаться ни перед какими расходами и в самые краткие сроки создать самые изысканные и восхитительные платья, чтобы потом можно было выставить их в