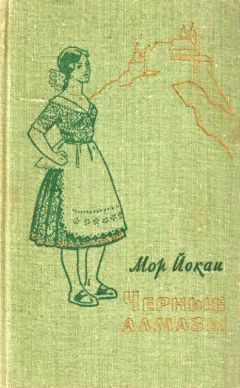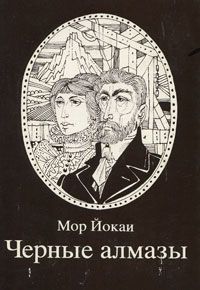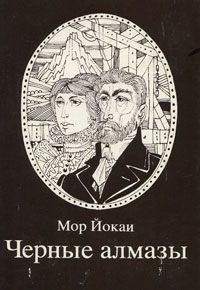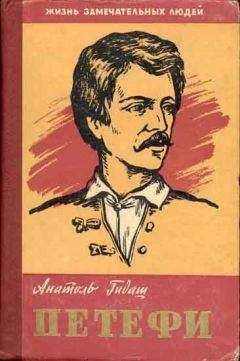В свете появились платья темных тонов, сверху закрытые до самого ворота, снизу узкие, облегающие; вошли в моду темные драгоценности, крупные цепи, угольно-черные бусы наподобие четок с крестом в середине.
В соответствие с внешней модой был приведен и духовный мир. Отныне хороший вкус предписывал ходить в церковь, слушать проповеди. Дамы учились элегантно креститься и потуплять взоры, не отрывая их от молитвенника.
Грусть и скорбь по поводу испорченности света нашли выход и в более значительных проявлениях.
Элегантные дамы принялись собирать пожертвования на благочестивые цели, как то: в фонд доблестных воинов, призванных на защиту святейшего престола; на уплату штрафа, присужденного истинно верующим, набожным газетчикам; на обеспечение всем необходимым истовых служителей божьих, изгнанных с насиженных мест безбожниками. Первые красавицы салонов и сцены собирали пожертвования на эти возвышенные цели не только среди знакомых, но в своей набожности и смирении не гнушались даже стоять с кружкой на паперти, принимая доброхотные даяния прихожан.
Господин Каульман не мог бы выбрать более благоприятного момента для осуществления великолепного плана аббата Шамуэля.
К тому же внутреннее настроение парижского модного света целиком совпало с душевным состоянием Эвелины.
Через несколько дней после переезда в Париж умер ее калека-брат. Один знаменитый врач сделал ему операцию, после которой тот излечился навек.
Эвелина была расстроена и подавлена. У нее было такое чувство, будто больше ей не для кого жить.
Старенькие костыли умершего калеки она хранила в своем будуаре, прислонив с обеих сторон к туалетному столику, и два раза в неделю карета отвозила ее на кладбище, где она вешала на могильный крест свежие венки.
Другими словами, Эвелина была искренне увлечена этой модой на покаяние.
С гораздо большим чувством она пела в церкви Моцарта и Генделя, нежели Верди — в опере.
Более того, Эвелина решила устроить в своем салоне благотворительный концерт с дорогими пригласительными билетами, средства от которого намеревалась употребить на какое-либо богоугодное дело. Может быть, на вспомоществование зуавам или еще на что-нибудь в этом же роде. Я не знаю точно, а почему, об этом речь пойдет ниже.
И в тот момент, когда она ломала голову над составлением программы, к ней со свойственной ему взбалмошностью ворвался без всякого доклада ее давний любимец, товарищ веселых забав, Арпад.
Эвелина, выронив перо из рук, со смехом бросилась к нему и обняла.
— Ах, проказник вы этакий! Где же это вы пропадали?
— Скитаюсь в поисках работы, — также смеясь, отвечал Арпад. — Ищу, где бы поставить свои цимбалы и дать концерт.
— Как нельзя кстати! Вас словно позвали сюда. Но как вы меня разыскали?
— Невелика премудрость! Если бы я не нашел вашего имени в театральной программе, я бы взглянул на афишу у храма святого Евстахия.
— Вы уже слышали меня?
— И здесь и там. И на сцене и в церкви. Но должен сказать, что в церкви очень высокая плата за вход. Если в опере я заполучил вас за двенадцать франков, то у дверей храма герцогиня, собиравшая плату за вход, не согласилась впустить меня меньше чем за двадцать.
— Ах, какой же вы дурачок! И что за выражения? Он заполучил меня за двенадцать франков! А вот я заполучу вас немедленно! За какую цену можно вас заполучить?
— Весь вопрос в том, для чего?
— Ну, взгляните на этого простака! Да уж, конечно, не кофе молоть! За какую плату вы согласитесь играть один вечер?
— Вам за одно пожатие прелестной ручки, а для других установлена плата в пятьсот франков.
— А если речь идет о благотворительном концерте?
— В таком случае ни даром, ни за деньги!
— Но-но, что это за разговоры! Вы циник! Неужели в вас ни к кому нет жалости? Неужели вы ничего не сделаете для бедных?
— Я знаю одну бедную женщину, которой обязан всем: это моя мать. Каждый грош, отданный другому, я отнимаю у человека, обобранного самым несправедливым образом: у моей матери. Так пусть сперва вернут моей матери то, что забрали у нее, а уж потом я отдам миру все, что в моих силах. А до тех пор все мое принадлежит моей матери.
— Ах, так вы маменькин сынок! Ну, тогда вы получите пятьсот франков, но надо сыграть что-нибудь возвышенное, духовное: мессу Листа или ораторию Генделя.
— Что? Уж не в пользу ли зуавских волонтеров будет этот концерт?
— Да, и я его устраиваю.
— Я не приму в нем участия.
— Но почему же?
— Почему? Да потому, что я не хочу выступать против Гарибальди.
— Ох, да вы на редкость неразумное дитя! Он, видите ли, не хочет выступать против Гарибальди!
— Нет и нет! — вспыхнул юноша и, чтобы придать больший вес своему протесту, распахнул жилет и показал Эвелине:
— Видите это?
На нем была красная рубашка. Эвелина залилась безудержным смехом.
— А вы и впрямь заделались краснорубашечником! Того и гляди, пойдете в гарибальдийцы.
— Я бы давно пошел, если бы не мама.
— А если вас ранят в руку, что вы станете делать?
— Попрошусь нахлебником к какой-нибудь знатной даме. Уж кто-нибудь да согласится содержать меня.
Тут Эвелина неожиданно разрыдалась.
Ариад никак не мог взять в толк отчего.
Он кинулся к Эвелине, принялся уговаривать ее, утешать, выспрашивать, уж не обидел ли он ее чем, пока наконец мадам не проговорила сквозь слезы:
— Бедный Яношка умер. Видите, вон там, у стола, его костылики.
— Как жалко! Немало веселых часов провели мы с несчастным мальчиком!
— Правда, ведь вы его тоже любили? Знаете, для меня теперь весь мир опустел. Больше никогда я не услышу стука его костылей на лестнице. Не знаю, для чего я еще живу. Мне хотелось бы жить ради человека, который не может обойтись без меня, за которым бы я ухаживала. Я мечтаю о каком-нибудь художнике, потерявшем зрение, или музыканте, лишившемся правой руки, о великом борце за свободу, которого преследуют, и он не может выйти даже из дому, и для которого я была бы всем-и спасительницей и кормилицей. Идите к Гарибальди!
Тут она снова рассмеялась.
— Ну, лучше поговорим о другом. Вы ведь слышали мое пение? Что вы о нем скажете?
— Если бы вы могли и дьяволам петь так же, как ангелам, вы стали бы поистине великой артисткой.
— А кого вы подразумеваете под дьяволами?
— Ну, из проповедей отца Ансельма вы знаете, что театр — это капище дьявола.
— Ах!.. Вы неотесанный мужлан! Разве вам не известно, что я артистка?
— Тысяча извинений! Я думал, что днем вы аббатиса и лишь по вечерам артистка. Послушайте, а ведь это было бы прибыльное занятие.
— Ах, оставьте, вы, сумасшедший! Чем я похожа на аббатису?
— А разве вы одеты не как аббатиса?
— Я одета так для покаяния. А вы безбожник! Насмехаетесь над благочестием!
— О нет, помилуйте, мадам! Более того, я признаю, что ходить в сером и черном шелку, значит, приносить великое покаяние, кокетничать, потупляя взор, значит, пребывать в глубокой скорби, а вкушать лангуст по двадцать франков — это и есть соблюдать великий пост. Я даже готов поверить слухам, которые распространяет набожный свет: будто парижанки оттого носят закрытые платья, что по средневековой моде бичуют себя хлыстом во искупление грехов и хотят скрыть следы истязаний.
— Ах, нет, это неправда! Мы так не поступаем! — возражала Эвелина.
— Не берусь утверждать. Так поговаривают в свете, а знатные дамы умеют хранить тайны.
— Но это неправда! — горячилась Эвелина. — Мы не бичуем себя. Вот убедитесь сами!
И с этими словами она, наклонившись к Арпаду, с полной непосредственностью приподняла свой вышитый воротничок, чтобы тот заглянул ей за ворот.
Арпад покраснел и отвел глаза.
В сущности, оба были еще просто дети!
Затем Арпад взял шляпу и шутливо распрощался с Эвелиной:
— Ну что ж, собирайте пением отряд зуавов для господина Мерода, а мы с Гарибальди своей музыкой их разгоним!
И с этими словами, оставив Эвелине визитную карточку, юный сумасброд удалился.
А его собеседница, будучи столь же сумасбродной, вернулась к составлению программы благотворительного вечера.
Эта женская забастовка в Париже что-то уж слишком затянулась.
Все мы, кто восторгался забастовками наборщиков или пекарей, знаем, как трудно выдержать перебои в производстве таких вещей, которые относятся к повседневным потребностям.
А вдобавок еще женщины устроили забастовку!
Parbleu![171] Шутить подобным манером в Париже опасно.
Сто лет назад аббат Пари ввел в моду отказ от наслаждений и умерщвление плоти, и неистовство святости постепенно распространилось настолько широко, что все красивые женщины и девушки, вместо того чтобы подыскивать себе милого, отправлялись на кладбище и занимались самобичеванием; женщины били себя палками и вскрикивали при этом: «Ах, как это приятно! Ах, как спасительно!»