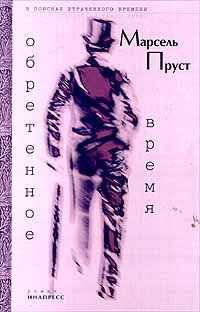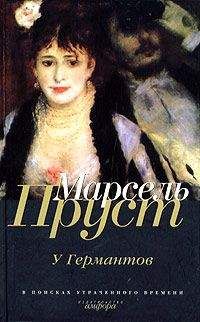Секунду-другую герцогиня, должно быть, испытывала счастье, ведь ее содержательное прошедшее было разделено мною, но когда я попросил рассказать мне, в чем выражался провинциализм г-на де Бреоте, коего в свое время я плохо отличал от г-на де Саган или г-на де Германт, она снова встала на точку зрения светской женщины, то есть хулительницы всякой светскости. Говоря со мной, герцогиня провела меня по комнатам. В маленьких гостиных собрались близкие друзья, — чтобы послушать музыку, они предпочли уединиться. В гостиной ампир несколько фраков вслушивались, восседая на канапе; рядом с Психеей, опирающейся на Минерву, виднелось кресло, поставленное под прямым углом, но внутри вогнутое, как люлька, — там сидела девушка. Изнеженность ее позы, то, что она и не шелохнулась, когда герцогиня вошла, контрастировало с чудным сиянием ее ампирного платья алого шелка, перед которым бледнели самые красные фуксии, и значки и цветы так глубоко погрузились в перламутровую ткань, что на поверхности остались лишь впалые следы. Здороваясь с герцогиней, она слегка наклонила прекрасную каштановую голову. Хотя было еще совсем светло, чтобы лучше сосредоточиться на музыке она попросила закрыть большие занавеси, и чтобы общество не ломало ноги, на треножнике зажгли урну, поверх которой разливалось легкое свечение. В ответ на мой вопрос, г-жа де Германт сказала, что это г-жа де Сент-Эверт. Тогда я спросил, кем она приходится известной мне Сент-Эверт. Герцогиня ответила, что это жена одного из ее внучатых племянников, высказалась за мысль, что — урожденная Ларошфуко, но при этом отрицала, что сама знакома с Сент-Эвертами. Я напомнил ей о приеме (известном мне, по правде говоря, лишь понаслышке), на котором, принцессой де Лом, она встретила Свана. Г-жа де Германт утверждала, что никогда такого не было. Герцогиня всегда была врушкой, и с годами это в ней усугубилось. Г-жа де Сент-Эверт представляла салон — со временем, впрочем, рухнувший, — существование которого герцогиня любила отрицать. Я не настаивал. «С кем вы у меня могли познакомиться (он был остроумен), так это с мужем упомянутой, — а с последней у меня никаких отношений не было». — «Но ведь она не была замужем». — «Вам так кажется, потому что они развелись, — он, кстати, был намного приятней супруги». В конце концов, я понял, что огромный, необычайно крупный и сильный мужчина с совершенно белыми волосами, с которым я почти везде встречался, хотя имени так и не узнал, был мужем г-жи де Сент-Эверт. Он умер в прошлом году. Что же касается племянницы, то мне так и не довелось узнать, от желудочной ли боли, нервов, флебита ли, родов, предстоящих, недавних или неудавшихся, но она слушала музыку без движений и, кто бы ни прошел, не шелохнувшись. Скорее всего, она, гордясь своими прекрасными алыми шелками, решила представить нам в этом кресле своего рода Рекамье. Едва ли она понимала, что благодаря ей имя Сент-Эвертов распустилось во мне заново, и в далеком отстоянии отмечало долготу, продолжительность Времени. И она баюкала Время в челночке, где цвели имя Сент-Эвертов и стиль ампир в шелках красных фуксий. Г-жа де Германт заявила, что ампир всегда внушал ей отвращение; этим она хотела сказать, что она питала к нему отвращение сейчас, и это было правдой, потому что, хотя и с некоторым опозданием, она следовала моде. Не входя в такие сложности, чтобы говорить о Давиде, которого она знала плохо, еще в юности она считала г-на Энгра «скучнейшим трафаретчиком», затем, ни с того ни с сего — «самым смачным мэтром Нового Искусства», и дошла даже до того, что «перестала выносить Делакруа». Какими путями она вернулась от этого культа к порицанию, не столь важно, поскольку это нюансы вкуса, отраженные критиками искусства за десять лет до разговоров многоумных дам. Покритиковав ампир, она извинилась за разговор о таких незначительных людях, как Сент-Эверты и таких пустяках, как провинциализм Бреоте, ибо она была так же далека от понимания, почему меня это интересовало, как г-жа де Сент-Эверт-Ларошфуко, в поисках желудочного успокоения или энгровского эффекта, — почему чаровало меня ее имя, имя ее мужа, а не более славное имя ее родителей, что я смотрел на нее — в этой символической пьесе — как на баюкающее движение Времени.
Особенно она хвасталась, что у нее каждый день присутствуют Х и Y. Дело в том, что в конце концов она пришла к концепции «салонной» дамы, некогда вызывавшей у нее отвращение (хотя сегодня она это отрицала), и огромным преимуществом, печатью изысканности, по ее мнению, было принимать у себя «всех видных». Если я говорил ей, что та или иная «салонная» дама не говорила ничего хорошего, при жизни последней, о г-же де Хоуланд, моя наивность вызывала у герцогини буйное веселье: «Естественно, потому что у нее все и собирались, а та хотела всех к себе переманить».
«Но зачем я вам говорю об этой чепухе, разве все это вам интересно?» — воскликнула герцогиня. Эта фраза была произнесена ею вполголоса, и никто не мог расслышать слов. Но молодой человек (он впоследствии заинтересует меня своим именем, намного более близким мне некогда, чем имя Сент-Эвертов) раздраженно вскочил и отошел подальше, чтобы его сосредоточению не мешали. Потому что играли Крейцерову сонату, но, запутавшись в программе, он решил, что это сочинение Равеля, про которого говорили, что он прекрасен, как Палестрина, но труден для понимания[205]. Он так резко вскочил, что сшиб столик, потому что в темноте его не заметил, — большинство присутствующих тотчас обернулось, и это, такое простое упражнение (посмотреть, что там позади) ненадолго прервало мучительное «благоговейное» прослушивание Крейцеровой сонаты. Я и г-жа де Германт, как причина скандальчика, поспешно сменили комнату. «Ну разве эти пустяки могут интересовать такого выдающегося человека, как вы? Я только что видела, как вы болтали с Жильбертой де Сен-Лу. Это вас недостойно. По мне так ничего она из себя не представляет, эта женщина… это не женщина, это что-то самое фальшивое и буржуазное в свете (даже защищая Интеллектуальность, герцогиня примешивала к этому аристократические предрассудки). Да и вообще, зачем вы ходите на такие приемы? Сегодня еще понятно, потому что здесь читала Рашель, это может вас заинтересовать. Но сколь бы хороша она сегодня ни была, перед такой публикой она особо не выкладывается. Как-нибудь вы у меня пообедаете с ней наедине. Тогда вы поймете, что она из себя представляет. Она на сто голов выше всего, что здесь есть. И после обеда она вам почитает Верлена. Вы мне об этом скажете что-нибудь новое. Но как вас занесло на эту „помпу“ — нет, я этого не понимаю. Если, конечно, вы не хотите изучать…» — добавила она с легким сомнением и колебанием, не углубляясь, впрочем, ибо в точности не представляла, в чем заключался плохо представимый род деятельности, на который она намекнула.
«Вам не кажется, — спросил я герцогиню, — что для г-жи де Сен-Лу неприятны встречи с бывшей любовницей мужа?» Я увидел, как на лицо г-жи де Германт легла косая складка, связующая какими-то глубокими нитями только что услышанное с малоприятными мыслями. Связями глубокими, хотя и не выражаемыми, — но тяжелая основа наших слов никогда не получит ответа, ни словесного, ни письменного. Только глупцы впустую десять раз подряд просят ответить на сдуру написанное письмо, в котором было что-то лишнее; ибо на такие письма отвечают делами, и корреспондентка, которую вы уже сочли неаккуратной, при встрече назовет вас господином вместо того, чтобы назвать по имени. Мой намек на связь Сен-Лу с Рашелью был не так тяжел и только на секунду мог вызвать у г-жи де Германт тягостное впечатление, напомнив ей, что я был другом Сен-Лу и, возможно, конфидентом по поводу огорчений, причиненных Рашели на вечере у герцогини. Но ее мысли на этом не остановились, грозная складка испарилась, и г-жа де Германт ответила на мой вопрос о г-же де Сен-Лу: «Скажу вам, что думаю: ей это безразлично, потому что Жильберта никогда не любила мужа. Она ведь просто чудовище. Ей нравилось положение в обществе, имя, то, что она станет моей племянницей, ей хотелось выбраться из своей грязи, — после чего ей ничего другого и в голову не пришло, как туда вернуться. Знаете, я много страдала из-за нашего бедного Робера, потому что зорок-то как орел он не был, но потом разобрался, и в этом, и во многом другом. Не следует так говорить, потому что она все-таки моя племянница, и у меня нет точных доказательств, что она его обманывала, но слухи ходили разные, и — скажу вам, что знаю, — с одним офицером из Мезеглиза Робер хотел стреляться. И поэтому-то Робер и пошел на фронт, война для него стала каким-то выходом из семейных неприятностей; если хотите знать мое мнение, его не убили — он сам пошел на смерть. А она так и вовсе не горевала, она даже удивила меня своим редкостным цинизмом и неслыханным безразличием, — мне это было очень обидно, потому что я любила бедного Робера очень сильно. Вас это удивит, наверное, потому что меня знают плохо, но мне до сих пор случается о нем думать. Я никого не забываю. Он мне ничего не говорил, но понял, что я все разгадала. Сами подумайте, если бы она хоть капельку любила своего мужа, разве смогла бы она с таким хладнокровием находится в этой комнате — ведь здесь присутствует женщина, в которую он был безумно влюблен столько лет? можно даже сказать — всегда, потому что я уверена, что это никогда не прекращалось, даже во время войны. Да она бы ей глотку перегрызла!» — крикнула герцогиня, забывая, что сама она, настаивая, чтобы пригласили Рашель, и делая возможной эту сцену (которую она считала неизбежной, если бы Жильберта любила Робера), поступала, наверное, жестоко. «Да она, знаете ли, — заключила герцогиня, — просто свинья». Это выражение смогло прозвучать из уст г-жи де Германт после того, как она по наклонной скатилась из среды обходительных Германтов в общество комедианток, оттого, что подобное, как ей казалось, «в духе» грубоватого XVIII-го века, потому также, что, как она полагала, ей позволено все. Но в действительности эти слова были продиктованы ненавистью к Жильберте, настоятельной потребностью нанести ей удар, за невозможностью физически — заочно. Также этим герцогиня хотела оправдать свое поведение по отношению к Жильберте, или, скорее, в пику ей, в свете и семье, исходя из преемственности интересов Робера.