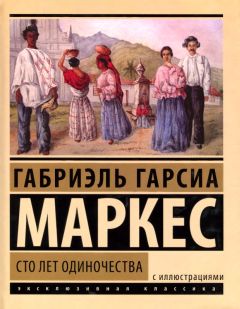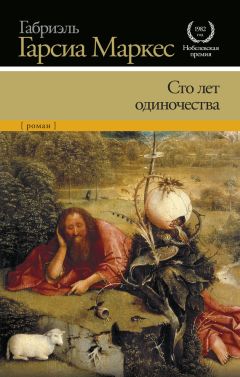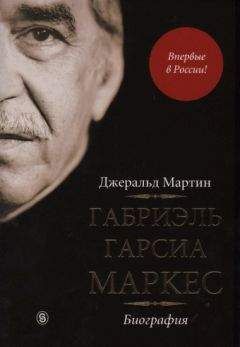— Я Аурелиано Буэндиа.
— Убирайся в свою комнату, — сказал Хосе Аркадио.
Аурелиано отправился к себе и даже не вышел посмотреть на сиротливые похороны Фернанды. Иногда через раскрытую дверь кухни он видел, как Хосе Аркадио, тяжело дыша, бродит по дому, а глубокой ночью из обветшалых спален до Аурелиано доносились его шаги. Голоса Хосе Аркадио он не слышал многие месяцы, и не только потому, что тот не удостаивал его беседой, но и потому, что у него самого не было ни желания поговорить, ни времени подумать о чем-нибудь другом, кроме пергаментов. После смерти Фернанды он вытащил из тайника предпоследнюю золотую рыбку и направился в лавку ученого каталонца за нужными книгами. Все, что он увидел по пути, не вызывало у него никакого интереса, может быть, потому, что у него не было воспоминаний и ему не с чем было сравнивать увиденное; пустынные улицы и заброшенные дома выглядели точно такими, какими он рисовал их в своем воображении в те дни, когда с радостью отдал бы душу, лишь бы взглянуть на них. Он сам предоставил себе разрешение, в котором ему отказала Фернанда, и решился выйти из дому, но только один раз, с одной-единственной целью и лишь на самый короткий срок, поэтому он пробежал, не останавливаясь, одиннадцать кварталов, отделявших его дом от переулка, где в былые времена занимались толкованием снов, и с бьющимся сердцем вошел в захламленное, темное помещение, в котором негде было повернуться. Казалось, что это не книжная лавка, а братское кладбище старых книг, сваленных беспорядочными грудами на источенные муравьями и затянутые паутиной полки, и не только на полки, но и на пол, в узких проходах между полками. На длинном столе, прогнувшемся под тяжестью нагроможденных на него фолиантов, владелец лавки, не останавливаясь, писал что-то не имеющее ни начала, ни конца, писал фиолетовыми корявыми буквами на листках, выдранных из школьной тетради. Его красивые серебристые волосы нависали на лоб, словно хохолок какаду. В живых и узких голубых глазах светилась кроткая доброта человека, прочитавшего все книги на свете. Сидел он весь потный, в одних кальсонах и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на пришедшего. Аурелиано без особых трудов раскопал среди этого сказочного беспорядка нужные ему пять книг, ибо все они находились точно там, где указал Мелькиадес. Не говоря ни слова, он протянул отобранные тома и золотую рыбку ученому каталонцу, тот перелистал книги, и веки его прикрылись, подобно створкам раковины. «Должно быть, ты сумасшедший», — произнес он на своем родном языке, пожал плечами и вернул Аурелиано книги и рыбку.
— Забирай, — сказал он уже по-испански. — Последним человеком, который читал эти книги, наверное, был Исаак Слепой, поэтому подумай хорошенько, что ты делаешь.
Хосе Аркадио отремонтировал спальню Меме, приказал почистить и заштопать бархатные шторы и камчатый балдахин вице-королевской постели и привел в порядок купальню, где стенки цементного бассейна покрылись каким-то черным и шероховатым налетом. Спальней и купальней он и ограничил свои владения, заполнив их всякой чепухой: замусоленными экзотическими безделушками, дешевыми духами и поддельными драгоценностями. В других помещениях дома его внимание привлекли только статуи святых на домашнем алтаре, они ему чем-то не понравились, и однажды вечером он снял их с алтаря, вынес во двор и сжег дотла на костре. Вставал он обычно в двенадцатом часу дня. Проснувшись, облачался в затасканный халат, вышитый золотыми драконами, совал ноги в шлепанцы с золотыми кистями, отправлялся в купальню и там приступал к обряду, который по своей торжественной медлительности был похож на ритуал, соблюдавшийся Ремедиос Прекрасной. Прежде чем опуститься в бассейн, он сыпал в воду ароматические соли из трех белых флаконов. Он не совершал омовений с помощью тыквенного сосуда, как Ремедиос Прекрасная, но, погрузившись в благоуханную влагу, два часа лежал на спине, убаюкиваемый свежестью воды и воспоминаниями об Амаранте. Через несколько дней после приезда он снял свой костюм из тафты, слишком теплый для этих мест и к тому же единственное его парадное платье, влез в узкие брюки, похожие на те, что натягивал Пьетро Креспи, отправляясь на уроки танцев, и рубашку из натурального шелка, на которой были вышиты его инициалы. Дважды в неделю он стирал эту одежду в бассейне и, пока она просыхала, ходил в халате, так как другой смены у него не было. Дома Хосе Аркадио никогда не обедал. Он выходил на улицу, как только спадал полуденный зной, и возвращался глубокой ночью, и снова тоскливо бродил по комнатам, тяжело дыша, и думал об Амаранте. Амаранта да еще страшные глаза святых в мерцании ночника — только эти два воспоминания сохранял он о своем родном доме. Много раз в Риме призрачными августовскими ночами ему грезилась Амаранта: она поднималась из мраморного бассейна в своих кружевных юбках и с повязкой на руке, приукрашенная тоской изгнанника. В противоположность Аурелиано Хосе, который старательно топил образ Амаранты в кровавом болоте войны, Хосе Аркадио пытался сохранить его живым в глубинах чувственности все время, пока обманывал мать баснями о своем духовном призвании. Ни ему, ни Фернанде никогда не приходило в голову, что их переписка представляет собой всего лишь обмен вымыслами. Вскоре после приезда в Рим Хосе Аркадио ушел из семинарии, но продолжал поддерживать легенду о своих занятиях теологией и каноническим правом, чтобы не лишиться сказочного наследства, — о нем твердили бредовые письма его матери; это наследство должно было вызволить его из нищеты, вытащить из грязного домишка на Трастевере, на чердаке которого он ютился вместе с двумя друзьями. Получив последнее письмо от Фернанды, продиктованное предчувствием смерти, он сложил в чемодан ошметки фальшивой роскоши и пересек океан в трюме корабля, где эмигранты, сбившись в кучу, как быки на бойне, поглощали холодные макароны и червивый сыр. Еще не прочитав завещания Фернанды, которое представляло собой всего лишь подробный и запоздалый перечень бед, он уже по виду развалившейся мебели и заросшей сорной травой галереи догадался, что попал в западню, откуда ему не выбраться, и никогда больше он не увидит алмазный свет римской весны, не вдохнет ее воздух, пропитанный древностью. В часы бессонницы, вызванной изнурительными приступами астмы, он снова и снова измерял глубину своего несчастья, бродя по мрачному дому, где старческие выдумки Урсулы внушили ему в свое время страх перед миром. Боясь потерять Хосе Аркадио в потемках, Урсула приучила его сидеть, забившись в угол спальни, она сказала, что это единственное место, куда не заглядывают мертвецы, которые появляются с наступлением сумерек и начинают разгуливать по всему дому. «Если ты сделаешь что-нибудь плохое, — грозила ему Урсула, — святые угодники мне тут же все расскажут». В детстве он проводил в этом углу жуткие вечера, сидел не двигаясь на табурете, пока не наступала пора идти спать, сидел, потея со страху под неумолимыми, ледяными взглядами святых соглядатаев. В этом дополнительном мучении не было необходимости, так как к тому времени Хосе Аркадио уже давно испытывал страх перед всем, что его окружало, и готов был испугаться всего, что может встретиться в жизни: уличных женщин, которые портят кровь, домашних женщин, рожающих младенцев со свиным хвостом, бойцовых петухов, одним приносящих смерть, а другим — бесконечные угрызения совести, огнестрельного оружия, которое при первом к нему прикосновении обрекает вас на двадцать лет войны, опрометчивых затей, неизменно заканчивающихся разочарованием и безумием, и, наконец, всего, что Господь сотворил в бесконечной благости своей, а дьявол извратил. По утрам он просыпался, измученный кошмарами, но солнечный свет в окне и ласковые руки Амаранты, которая купала его в бассейне и шелковой кисточкой любовно припудривала тальком у него в паху, отгоняли ночные страхи. В залитом солнцем саду даже Урсула была совсем другой, она уже не запугивала его рассказами о всевозможных ужасах, а чистила ему зубы толченым углем — пусть его улыбка сияет, как у папы; подстригала и полировала ему ногти — пусть паломники, которые соберутся в Рим со всех концов земли, поразятся, в какой чистоте содержит свои руки папа; обрызгивала его цветочной водой — пусть он пахнет не хуже папы. Ему довелось видеть, как папа с балкона дворца Кастельгандольфо на семи языках держал речь перед толпой паломников, но он обратил внимание только на белизну рук первосвященника, словно вымоченных в жавеле, ослепительный блеск его летнего облачения и тонкий запах изысканного одеколона.
Прошел почти год с того дня, как Хосе Аркадио вернулся под отчий кров, и когда он проел серебряные канделябры и украшенный гербами ночной горшок — по правде говоря, золотым в этом сосуде оказался только инкрустированный герб, — его единственным развлечением стало собирать в доме городских мальчишек и давать им полную свободу. В часы сиесты он позволял им скакать через веревочку в саду, распевать песни на галерее, кувыркаться на креслах и диванах, а сам переходил от одной компании к другой, обучая детей хорошему тону. К тому времени он уже расстался с узкими брюками и шелковой рубашкой и носил обычный костюм, купленный в лавочках у арабов, но все еще продолжал сохранять вид томного достоинства и папские манеры. Дети освоились с домом так же быстро, как когда-то товарки Меме. До позднего вечера было слышно, как они болтают, поют, отбивают чечетку, — дом походил на школу-интернат с распущенными детьми. Сначала Аурелиано не замечал этого, но вскоре гости добрались до комнаты Мелькиадеса. Однажды утром двое мальчишек распахнули дверь и испугались, увидев грязного, лохматого человека, сидящего за столом над пергаментами. Мальчики не посмели войти, но с тех пор заинтересовались странным незнакомцем. Они шушукались у дверей, поглядывали в щели, забрасывали в комнату через форточку всякую нечисть, а однажды заколотили снаружи дверь и окно гвоздями, и Аурелиано должен был провозиться целых полдня, чтобы открыть себе выход. Поощряемые безнаказанностью своих проделок, дети осмелели, и, выбрав время, когда Аурелиано был на кухне, четыре мальчика проникли в комнату с намерением уничтожить пергаменты. Но стоило им схватить пожелтевшие свитки, как ангельская сила подняла их в воздух и держала во взвешенном состоянии до тех пор, пока Аурелиано не вернулся и не вырвал у них пергаменты из рук. С того дня его больше не беспокоили.