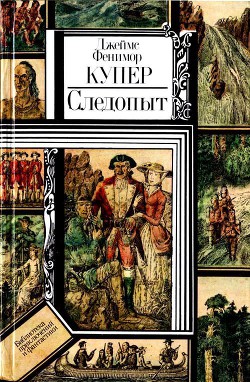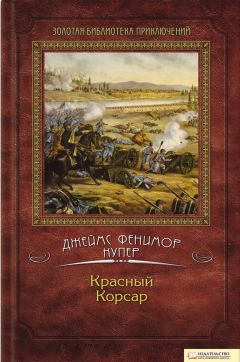за дело,
И песня хриплая тотчас
Над бурным морем полетела.
Пора. Безродные бродяги
Подхватывают клич отваги:
«Всем якорь поднимать!»
На горизонте паруса!
Мужайся, правь врагу навстречу,
Будь настоящим моряком.
Готовясь в роковую сечу,
Любимых помяни тайком.
Пускай наполнит ветром парус,
Пускай волны смирится ярость.
На горизонте — паруса!
Виктория! Ура!
Мы победили, не рыдай
Над другом в безутешном горе,
На небе ждет героя рай,
Его могила — в синем море.
Пой веселей. Содвинем кружки
В шумливой праздничной пирушке.
Виктория! Ура!
Он кончил петь и поднялся, не дожидаясь похвал, которые должны были последовать за исполнением; предложив дамам пользоваться услугами оркестра, когда им будет угодно, он пожелал им спокойной ночи и приятных снов и удалился в нижнее помещение, намереваясь, очевидно, тоже лечь спать.
Сколько ни были миссис Уиллис и Джертред заинтригованы и даже пленены этой необузданностью страстей, но после его ухода в их душной темнице словно пахнуло свежим воздухом. Гувернантка окинула воспитанницу взглядом, в котором нежность мешалась с беспокойством; но обе молчали, ибо легкий шорох у двери напоминал им, что они еще не одни.
— Не хотите ли еще музыки, сударыня? — спросил наконец Родерик, робко выступая из темноты. — Если желаете, я могу убаюкать вас песней, но я не в силах петь, когда он требует веселья, которое мне не по душе.
Чело гувернантки потемнело, и она готова была ответить резким отказом, но жалобный тон и униженная поза юноши смягчили ее сердце; нахмуренный лоб разгладился, и лишь во взгляде, сменив материнскую тревогу, засветился укор.
— Родерик, — сказала она, — я надеялась, что мы больше не увидим тебя сегодня.
— Вы слышали гонг? Он может быть так весел, может распевать свои чудные песни в хорошую минуту, но вы еще не видели, каков он в гневе.
— Ужели гнев его столь страшен?
— Может быть, я боюсь его больше, чем другие, но для меня нет ничего ужаснее, чем одно его недоброе слово.
— Он груб с тобой?
— Никогда.
— Ты противоречишь себе, Родерик. То он суров, то нет. Разве ты не сказал, что в минуту раздражения он ужасен?
— Да, потому что теперь он переменился. Когда-то он вовсе не задумывался и не выходил из себя, но с недавних пор он сам не свой.
Миссис Уиллис ничего не ответила. Язык мальчика был ей куда более понятен, чем ее любопытной, но ничего не подозревающей спутнице, ибо в тот момент, когда она сделала мальчику знак удалиться, Джертред выразила желание побольше узнать о жизни и характере Корсара. Но гувернантка повелительным голосом повторила приказание, и юноша медленно, с явной неохотой выскользнул из комнаты.
Наконец-то наставница вместе со своей питомицей удалились в спальню и после привычных вечерних молитв заснули сном невинности, уповая на защиту того, кому они молились.
Корабельный колокол регулярно отбивал склянки во время ночной вахты, и теперь это был, пожалуй, единственный звук, который раздавался во мраке ночи, нарушая покой, царивший в океане и на судах, что плыли по лону вод.
Но мало кто — один на сотню тысяч —
Поведать мог бы о спасенье чудном.
Шекспир, Буря
В эти минуты обманчивой тишины «Дельфина» можно было бы уподобить дремлющему хищнику. И точно: бездействию пиратов не суждено было длиться долго. С восходом солнца потянул свежий ветер, неся с собой запах суши, и тронул с места дремлющее на волнах судно. Весь этот день, расправив широкие паруса, судно держало курс на юг. Вахта следовала за вахтой, ночь сменила день, а «Дельфин» все шел, не меняя направления. Но вот из моря один за другим начали подниматься голубые острова. Пленницы, ибо таковыми они себя теперь считали, молча провожали глазами проплывавшие мимо зеленые холмы, голые песчаные косы и горы, пока, по расчету гувернантки, они не очутились у берегов Западного архипелага [102].
За все это время гостьи не задали ни одного вопроса и ничем не показали, что прекрасно понимают: Корсар вовсе не собирается высаживать их в желанном порту. Джертред плакала, тоскуя по отцу, но делала это втихомолку или на груди у своей наставницы. Уайлдера она избегала, интуитивно чувствуя, что он не тот, кем она его считала, но на людях старалась держаться спокойно и ко всем относилась одинаково ровно.
Такое поведение встречало полную поддержку наставницы. С другой стороны, ни сам капитан, ни его помощник не искали встреч с обитательницами кают-компании чаще, чем этого требовала простая вежливость. Первый, словно жалея, что так откровенно проявил изменчивость своего нрава, ушел в себя и не только не искал общения, но избегал близости с кем бы то ни было; что же касается второго, то он отлично видел холодность гувернантки и переменившийся, хоть и все еще сочувственный взор ее воспитанницы. Уайлдер легко догадался о причинах такой перемены. Но, вместо того чтобы оправдываться, он держал себя так же отчужденно, как и они. А это лишний раз доказало бывшим друзьям бесчестность его помыслов, хотя даже миссис Уиллис признавала, что он ведет себя как человек, в чьей душе еще не умолк голос совести.
Мы не станем затягивать рассказ, описывая естественные сожаления, охватившие Джертред, когда она пришла к печальному убеждению в его виновности; не будем также описывать нежные мечты, которым она не стыдилась предаваться, — мечты о том, чтобы человек, наделенный столь многими благородными и высокими качествами, понял свои заблуждения и вернулся на ту стезю, для коей, как признавала рассудительная гувернантка, предназначила так богато одарившая его природа.
Много дней «Дельфин» спорил с ветрами, не перестававшими дуть в этих водах. Но, вместо того чтобы пробиваться к назначенной гавани, как это делают торговые суда, пиратский корабль внезапно изменил курс и, точно птица, спешащая в гнездо, метнулся в один из многочисленных проливов, разделявших острова архипелага. Им попадались десятки самых различных судов, но они избегали встреч; жизнь научила пиратов быть осторожными в водах, где кишат военные суда. Проскочив узкий пролив, разрывавший цепь Антильских островов, они благополучно вышли в открытое море, которое отделяло Антилы от Испанского моря. Как только пролив остался позади и во все стороны раскинулись широкие просторы океана, команда заметно повеселела. Да и на лице самого Корсара растаяла тень заботы, гнавшая его прочь от людей; исчезла отчужденность,

![Поселенцы (= Пионеры) [старая орфография] - Купер Джеймс Фенимор](https://cdn.my-library.info/books/280784/280784.jpg)