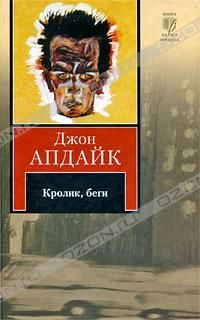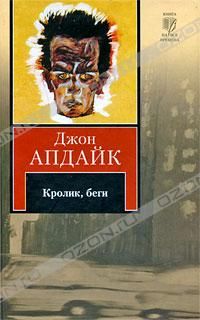— Я люблю темноту, — говорит она.
Успокоившись на этот счет, Нельсон идет наверх, даже не взглянув на отца. Кролик ревнует. За годы, прошедшие после школы, Мим научилась тому, чему он так и не научился: умению ладить с людьми.
Мама приподнимает чашку с блюдца, отхлебывает, ставит ее обратно. Мужественный, но опасный поступок. Она явно чем-то гордится — Кролик догадывается об этом по тому, как она сидит, выпрямившись, вытянув шею. Волосы у нее тщательно приглажены щеткой. Такие приглаженные и чуть ли не блестящие.
— Мим, — говорит она, — ездила сегодня с визитами.
Кролик спрашивает:
— К кому?
— К Дженис, — отвечает Мим. — В «Спрингер-моторс».
— Ну и что эта маленькая тупица изволила сказать в свое оправдание? — Кролик отодвигается от стола, ножки стула царапают по полу.
— Ничего. Ее не было на месте.
— А где же она была?
— Он сказал, что она пошла к юристу.
— Старик Спрингер сказал это?
Страх, переместившись в желудок, больно покусывает. Закон. Длинный белый конверт. Однако Кролику нравится то, что Мим отправилась туда и стояла в одном из своих костюмов перед макетом «тойоты» этаким ярким ножом, воткнутым в сердце империи Спрингера. Мим, их тайное оружие.
— Нет, — говорит она, — не старик Спрингер. Ставрос.
— Ты видела там Чарли? Гм. И как же он выглядит? Понуро?
— Он пригласил меня пообедать.
— Где же это?
— А, не знаю, в каком-то греческом ресторанчике в черном районе.
Кролик не может не рассмеяться. Вокруг него мертвецы и умирающие, однако он не может удержать это в себе.
— Представляю, что будет, когда он ей об этом расскажет.
— Сомневаюсь, что расскажет, — говорит Мим.
Папа медленно схватывает, о чем идет речь.
— О ком мы говорим-то, Мим? Об этом сладкоголосом, что вскружил Дженис голову?
Глаза у мамы вылезают из орбит, точно ее душат, а рот пытается изобразить радостную улыбку. Все настороженно умолкают.
— Ее любовник, — произносит она.
Кролик чувствует, как к горлу подкатывает тошнота.
Папа говорит:
— Ну, я за все время этой неразберихи ни разу не раскрыл рта — не думай, Гарри, что у меня не было желания вмешаться, но я сдерживался, чтобы не нарушать спокойствия, однако любовник, как я понимаю, — это человек, который любит кого-то и в горе и в радости, а судя по тому, что я слышал, этому хлыщу нужна только задница. Задница и имя Спрингера. Вы уж извините, что я так выразился.
— Я думаю, — говорит мама и замолкает, хотя лицо ее продолжает сиять. — Это славно. Знать, что у Дженис есть…
— Задница, — доканчивает за нее Мим.
Нехорошо это, думает Кролик, что эти двое, папа и Мим, развращают маму на краю могилы. Он холодно спрашивает Мим:
— О чем же вы с Чарли беседовали?
— Да так, — говорит Мим, — о разном. — Вздернув обтянутое трикотажем бедро, она слезает с кухонного стола, на который уселась, словно на табурет в баре. — Вы знали, что у него больное сердце? Он в любую минуту может отдать концы.
— Как бы не так, — говорит Кролик.
— Такие хлыщи, — произносит папа, двигая губами, чтобы вернуть на место челюсть, — живут до ста лет, хороня по пути всех честных исконных американцев. Не спрашивайте меня, почему это так, — у Господа наверняка есть на то причины.
Мим говорит:
— А мне он показался симпатичным. И очень даже неглупым. И он много лучше говорит о вас всех, чем вы о нем. Он очень заботится о Дженис — наверное, он первый за тридцать лет, кто серьезно отнесся к ней как к человеку. Он разглядел в ней много хорошего.
— Должно быть, под микроскопом разглядывал, — говорит Кролик.
— А тебя, — говорит Мим, поворачиваясь к Кролику, — он считает величайшим трусом, каких он когда-либо встречал. Он не может понять, почему, если ты хочешь вернуть Дженис, ты не придешь и не заберешь ее.
Кролик пожимает плечами.
— Я не верю в силу. И не люблю заниматься теми видами спорта, где соперники входят в клинч.
— Я рассказала ему, каким ты был нежным братом.
— Меня всегда беспокоило то, что он никогда мухи не обидит без надобности, — говорит папа. — Такое было впечатление, будто, сами того не зная, мы произвели на свет девочку. Разве не так, мать?
Мама выдавливает из себя:
— Нет. Настоящий мальчишка.
— В таком случае, сказал Чарли… — продолжает Мим.
Кролик прерывает ее:
— Уже и «Чарли».
— В таком случае, сказал он, почему Гарри стоит за войну?
— К чертовой матери, — говорит Кролик. Он и сам не сознавал, насколько устал и потерял уже всякое терпение. — Все, у кого голова на месте, стоят за эту чертову войну. Раз те хотят воевать, значит, мы обязаны воевать. Какая у нас альтернатива? Какая?
Мим пытается утихомирить расходившегося брата.
— По теории Чарли, — говорит она, — ты рад любой беде, лишь бы она освободила тебя от чего-то. Ты был доволен, когда Дженис ушла от тебя, доволен, когда твой дом сгорел.
— А еще больше буду доволен, — говорит Кролик, — когда ты перестанешь встречаться с этим елейным гадом.
Мим упирается в него взглядом, который ставил на место, наверно, тысячу мужчин.
— Как ты изволил выразиться: он в моем вкусе.
— Правильно: гангстер. Неудивительно, что ты там трахаешься так, что тебя скоро в гроб положат. Ты знаешь, чем кончают девочки для вечеринок вроде тебя? Тем, что их имя появляется в отчетах коронера после того, как они приняли слишком много снотворных таблеток, потому что телефон их перестал звонить, и гангстеры нашли себе других подружек, у которых кожа еще не отвисла. Ты в большой беде, сестренка, и ставросы всего мира не помогут тебе. Они же сами и засунули тебя туда, где ты находишься.
— Ма-ам! — восклицает Мим: повинуясь старому инстинкту, взывает к хрупкому инвалиду, что сидит, покачивая головой, за кухонным столом. — Скажи Гарри, чтоб отстал.
И Кролик вспоминает, что отсутствие ссор между ними — это миф: они часто ссорились.
Когда папа и Гарри возвращаются на другой день с работы, по окончании последнего рабочего дня Гарри, «торонадо» с нью-йоркскими номерами перед домом нет. Мим возвращается через час, после того как Кролик поставил свиные отбивные для ужина в печку; когда он спрашивает, где она была, Мим швыряет свою полосатую сумку на мягкий диван и отвечает:
— Да пошаталась вокруг. Навестила места моего детства. Центр сейчас и правда выглядит уныло, да? Сплошь черные навесы над автостоянками и черные с черными прическами «афро». И магазины, застланные линолеумом. Впрочем, одну симпатичную вещь я сделала. Зашла в тот магазинчик в нижней части Уайзер, где продают левацкие газеты, и купила фунт орешков. Хочешь верь, хочешь нет, Бруэр — единственное место, где еще можно купить хорошие земляные орехи в скорлупе. Еще теплые.
Она бросает Кролику пакетик, он на лету ловит его левой рукой и, пока они разговаривают в гостиной, щелкает орехи. А скорлупу бросает в цветочный горшок.
— Значит, — говорит он, — ты снова виделась со Ставросом?
— Ты же мне не велел.
— Эка важность, что я тебе не велел. Как он? Все хватается за сердце?
— Он трогательный. Уже тем, как держится.
— Ой-ой. Опять разбирали меня по косточкам?
— Нет, мы эгоистично говорили о себе. Он быстро меня раскусил. Мы еще и первого стакана не выпили, как он оглядел меня с ног до головы сквозь свои затемненные очки и говорит: «Трудишься в секс-бизнесе, да?» Дай мне орешек.
Он швыряет ей пригоршню — орешки рассыпаются по ее груди. На ней узкое короткое платьице, застегивающееся спереди и по рисунку похожее на шкурку ящерицы. Когда она ставит ноги на пуфик, ему виден даже ромбик колготок между ее ног. Существует три способа носить колготки: надевать трусы под колготки; надевать их сверху и не надевать вообще. Мим, похоже, выбрала третий способ. Она держится лениво и мягко: глаза ее смотрят менее жестко, хотя грим блестит, как будто только что наложенный.
— И это все, чем вы занимались? — спрашивает он. — Просто пообедали?
— Э-то все, г-господа.
— Что ты пытаешься доказать? Я-то считал, что ты приехала к нам на Восток, чтоб помочь маме.
— Помочь ей, помочь тебе. Как я могу помочь ей — я ведь не доктор.
— Что ж, я премного благодарен тебе за помощь — очень любезно с твоей стороны уложить в постель любовника моей жены.
Мим хохочет, запрокинув голову, показывая Гарри подковообразный изгиб своей челюсти снизу, блестящее белое полукружье. Смех внезапно обрывается, словно отрезанный ножом. Она серьезно, нагловато изучает брата.
— Будь у тебя выбор, что бы ты предпочел — чтобы он спал с ней или со мной?
— С ней. Дженис я всегда могу иметь — я хочу сказать, это возможно в принципе, а вот тебя — никогда.
— Понимаю, — весело соглашается Мим. — Изо всех мужчин на свете ты — единственный под запретом. Ты и папа.