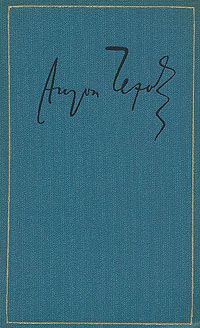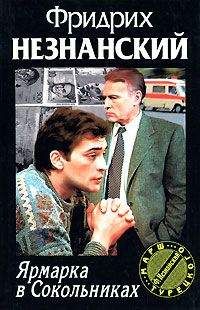По другим воспоминаниям – М. П. Чехова –, амбар Лаптевых и быт их приказчиков восходят к «гавриловскому» периоду в жизни чеховской семьи (Вокруг Чехова, стр. 79 и 84; ср. его же: Антон Чехов и его сюжеты, стр. 24); как заметил Попов (Чеховский сб., стр. 291), амбар Лаптева действительно «был в рядах, а жил он на Пятницкой, – и дело Гаврилова находилось в Теплых рядах, а проживал он в Замоскворечье». С гавриловским окружением связаны некоторые особенности языка приказчиков Лаптевых («кроме», «плантаторы»). В семье Чеховых эти слова употреблялись часто, что видно из переписки Чехова с братом Александром (см. Письма, т. I, стр. 43, и т. II, стр. 32).
Из бабкинского лексикона Чеховых и Киселевых в первопечатный текст повести вошло определение гувернантки детей Панаурова, как особы «умной, интеллигентной, отзывчивой», по словам Киша (варианты, стр. 378 – ср.: Зап. кн. I, стр. 24). См. комментарий Е. Н. Коншиной к записным книжкам – в кн.: Из архива А. П. Чехова. М., 1960, стр. 128.
В образе Рассудиной родные и знакомые Чехова заметили черты О. П. Кундасовой – подруги Марии Павловны по курсам Герье. Героиня повести, тоже окончившая эти курсы, жила уроками музыки (Кундасова давала уроки английского языка). М. П. Чехов в Рассудиной увидел лишь внешние черты Кундасовой (Вокруг Чехова, стр. 87). М. П. Чехова («Из далекого прошлого». М., 1960, стр. 66–67), однако, писала о внутреннем сходстве Рассудиной со своей подругой: прямота натуры, демонстративное нежелание казаться женственной, жизненная неустроенность. Кундасова, нуждаясь в деньгах, не хотела одалживаться у друзей (см. письма Чехова Суворину от 10 января и 18 апреля 1895 г.) – сходным образом реагирует и Рассудина на предложение Лаптева дать ей взаймы. «Роман» героини с Ярцевым современники уподобляли увлечению Кундасовой астрономом Ф. А. Бредихиным, в ее требовании к Лаптеву помочь исключенным студентам узнавали фразы, с которыми Кундасова обращалась к будущему общественному деятелю М. Г. Комиссарову (В. А. Маклаков. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954, стр. 174). «Тип Кундасовой» был отмечен в дни общения Чехова с ней в 1891 г. И. Л. Леонтьевым (Щегловым) (ЛН, стр. 482). Хотя сам Чехов отрицал сходство своей героини с Кундасовой в письме к Суворину от 21 января 1895 г., более ранние письма (ему же от 6 августа 1891 г.) подтверждают жизненную основу этого характера. Но основа эта была, конечно, шире.
Тип пианистки, живущей частными уроками, мог быть подсказан Чехову также его знакомством с А. А. Похлебиной, автором брошюры «Новые способы для приобретения фортепианной техники» (1894). В ее 17-ти письмах к Чехову (почти все они написаны в 1892–93 годах, т. е. как раз в годы, когда Чехов вынашивал замысел повести) чувствуется женщина с явно уязвленным самолюбием, несколько угловатого и жесткого характера, не стесняющаяся при случае упрекнуть своего корреспондента в недостаточном внимании «к делу» и т. д.
18 октября 1891 г. Чехов обратился к П. И. Чайковскому с просьбой найти для виолончелиста М. Р. Семашко подходящее место работы – и среди предварительных записей к повести, относящихся к концу 1891 или к началу 1892 г., появилась фраза: «У изв‹естного› музыканта я просил места для одного молодого ч‹елове›ка…» (Зап. кн. I, стр. 11). В повести об этом говорит за обедом Лаптев (глава X).
Иногда глубоко личный характер можно обнаружить в деталях, как будто далеких от событий жизни писателя. Такова мысль Лаптева о ночлежном доме для рабочих (I глава). В России существовало Общество ночлежных домов в Петербурге; очерк Ал. П. Чехова о петербургских ночлежных домах, опубликованный в «Новом времени» (1891, № 5533, 26 июля), понравился Чехову (см. письма Суворину и Ал. П. Чехову 6 августа 1891 г.); он мечтал о ночлежном доме и для Москвы, о чем писал 5 декабря 1894 г. Суворину. В записной книжке появилась заметка о намерении Лаптева устроить ночлежный дом (стр. 27), использованная затем в повести.
Первым откликнулся на повесть «Три года» Суворин, которому Чехов намеревался послать ее еще в корректуре. Судя по письму Чехова 21 января 1895 г., Суворин заметил сходство между образом Рассудиной и О. П. Кундасовой, между стариком Лаптевым и отцом Чехова и счел неуместным раздражение молодых купцов в амбаре Лаптевых против религии. Чехов возражал против каждого из этих замечаний.
Главы, напечатанные в январе, похвалил В. П. Буренин, правда, несколько двусмысленно, что видно из письма Ал. П. Чехова брату 22 января 1895 г.: «Буренин в восторге от твоей повести в „Русской мысли“ (по крайней мере на словах), но находит, что она у тебя чересчур отделана» (Письма Ал. Чехова, стр. 308).
После выхода второй книжки «Русской мысли» Чехову писал С. И. Шаховской: «Читал на днях „Три года“, зачем критик вздор брешет в „Русских ведомостях“ – прекрасная – живая вещь» (6 марта 1895 г. – ГБЛ; о рецензии «Русских ведомостей»; см. ниже). 3 апреля 1895 г. Чехову высказал свое мнение Н. А. Лейкин: «Хорошо. Но по-моему, Вы не кончили рассказа. Это только первая часть повествования. Продолжайте» (ГБЛ). А. И. Эртель воспринял повесть как типичное явление литературы «безвременья». Он писал В. А. Гольцеву 15 марта 1895 г., что повесть не имеет «нравственной нити», и противопоставил ее в этом отношении произведениям Л. Толстого: «…какая это безнадежно плохая вещь, несмотря на искры большого ума и таланта, – и, мало того, что плохая, но говорящая о какой-то внутренней, душевной импотенции автора» (Записки ГБЛ, вып. VIII, М., 1941, стр. 94). Ощущение мрачной усталости и даже чего-то «больного, надорванного, мучительного» (см. письмо Эртеля В. В. Огаркову 8 марта 1895 г. – там же, стр. 93) могло явиться лишь вследствие отождествления духовного итога, к которому пришел главный герой, с настроением самого автора – типичная и для критики того времени ошибка.
В сумме вопросов, затронутых в рецензиях на журнальную публикацию повести, выделяются два: как Чехов справился с формой большой повести и насколько жизненны изображенные им типы.
Еще не прочитав всей повести и ужаснувшись ее объему, Буренин («Критические очерки». – «Новое время», 1895, № 6794, 27 января) писал о несостоятельности попытки Чехова овладеть большой формой. Он признавал, что изображение купеческой среды в повести представляет определенный интерес, но в целом считал повесть лишь этюдом, а не завершенной картиной. «Растянутость» повести он противопоставлял сжатости маленьких рассказов Чехова и выражал сожаление, что Чехов поддался советам либеральной критики и стал писать большие произведения.
Первая половина повести дала повод также анонимному рецензенту «Книжек Недели» (1895, № 3) поторопиться с выводом о том, что и это произведение «не обещает выйти той крупной вещью, которой так долго ждут от Чехова» (стр. 256). Анонимный автор «Литературного обозрения» (1895, № 7, 12 февраля и № 13, 26 марта) считал повесть растянутой, но признавал удачной ее «бытовую сторону») и психологическое содержание. М. Южный (М. Г. Зельманов) писал в «Гражданине» (1895, № 60, 2 марта) о мозаике или калейдоскопе случайных сцен, положений и лиц. Автор «Летописи современной беллетристики» в «Русском обозрении» (1895, № 5, за подписью W), повторив этот тезис, возмущался финалом, который обрывает повествование там, где оно «вступает в новый, наиболее интересный фазис» (стр. 449).
Близок был к такому пониманию финала и А. М. Скабичевский («Литературная хроника». – «Новости и биржевая газета», 1895, № 106, 20 апреля). Ему не нравилось, что автор сначала рассказывает день за днем первые три года после женитьбы Лаптева, а потом внезапно прерывает свой рассказ «на загадочном восклицании героя: „поживем – увидим“, и читатель остается в недоумении; ему представляется самому угадать, что должно последовать далее». Как неудачу оценивал финал и М. Полтавский (М. И. Дубинский) в «Литературных заметках» («Биржевые ведомости», 1895, № 68, 10 марта). Мнение о неспособности Чехова к большим вещам и впоследствии подкреплялось ссылками на «Три года» (П. А. Ачкасов ‹П. А. Матвеев›. Письма о литературе. Письмо второе. Русская литература в 1895 году. – «Русский вестник», 1896, № 2, стр. 239–240).
Однако, при всем непонимании жанрового своеобразия повести, рецензенты, начиная с Буренина, отмечали типичность жизни, о которой идет в ней речь.
Скабичевский назвал центрального героя повести «Гамлетом Замоскворечья». Признав значительность изображения «нравов современного московского первогильдейного купечества», он противопоставлял в этом отношении Чехова П. Д. Боборыкину и Вас. И. Немировичу-Данченко. Статью свою он закончил словами: «Лаптев – это живой, осязаемый, на каждом шагу встречающийся в нашей жизни тип, это прямое наследие темного царства, логическое его последствие. Он так и напрашивается на обобщение в самом широком виде, и нетрудно было бы доказать, что в каждом из нас рядом с обломовщиной сидит лаптевщина, все мы в том или другом отношении Лаптевы». Понимание социальной природы чеховского героя, при абсолютном неприятии формы повести, показательно вообще для Скабичевского, с его либерально-народнической методологией и упором на чисто социологический анализ художественных явлений.