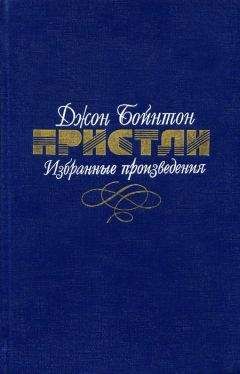Возмущенная этой сценой, Нана очень скверно позавтракала. Необходимо было, наконец, отвязаться от этого человека. Она раз десять откладывала деньги, но они всегда расходились — то на цветы, то на пожертвование в пользу какого-нибудь престарелого жандарма. Впрочем, Нана рассчитывала на Филиппа и очень удивлялась, что тот до сих пор не принес ей двухсот франков. Такая незадача: только третьего дня она купила Атласной целое приданое, истратила чуть ли не тысячу двести франков на платье и белье, а сама осталась без единого луидора.
Около двух часов дня, когда Нана начала уже не на шутку беспокоиться, к ней приехал Лабордет и привез рисунки кровати. Это послужило развлечением. Молодая женщина забыла обо всем на свете, хлопала в ладоши и прыгала от радости. Умирая от любопытства, она наклонилась над столом в гостиной и стала рассматривать рисунки. Лабордет давал ей объяснения:
— Вот смотри, это лодка; посредине букет распустившихся роз, затем гирлянда из цветов и бутонов; листья будут из зеленого золота, а розы из красного… А вот это большая группа для изголовья, хоровод амуров на серебряной сетке.
Нана перебила его, захлебываясь от восторга:
— Ой, какой смешной вот этот маленький, крайний, с задранным кверху задом… И как они лукаво смеются! А глаза у них ужасно плутовские!.. Знаешь, мой друг, я ни за что не осмелюсь безобразничать перед ними!
Ее гордость была удовлетворена безмерно. Ювелиры сказали ей, что ни одна королева не спала на подобной кровати. Но тут явилось маленькое осложнение. Лабордет показал ей два рисунка для спинки кровати. Один был воспроизведением мотива с лодками, а другой представлял собой отдельный сюжет. Ночь, с которой Фавн срывает покрывало, является во всей своей ослепительной наготе. Он добавил, что если она изберет второй рисунок, то ювелиры намерены придать фигуре Ночи сходство с нею. Эта, несколько рискованная с точки зрения художественного вкуса, идея заставила ее побледнеть от удовольствия. Молодая женщина уже видела свое изображение в виде серебряной статуэтки, — символический образ сладострастия в теплом сумраке ночи.
— Само собой разумеется, тебе придется позировать только для головы и плеч, — сказал Лабордет.
Она спокойно посмотрела на него.
— Почему?.. Раз речь идет о художественном произведении, мне наплевать на скульптора, который будет меня лепить!
Решено: она выбирает второй рисунок. Но Лабордет остановил ее.
— Постой… Это будет стоить дороже на шесть тысяч франков.
— Подумаешь, вот уж это мне совершенно безразлично! — воскликнула она, смеясь. — Мало у моего Мюфашки денег, что ли?
Теперь она иначе не называла графа в кругу своих близких друзей; они повторяли за ней: «Ты видела вчера вечером своего Мюфашку?..» или: «А я-то думал застать здесь Мюфашку!..» Это была маленькая вольность, которой, однако, она еще не позволяла себе в его присутствии.
Лабордет свернул рисунки, давая последние объяснения: ювелиры обязались сделать кровать через два месяца, приблизительно к 25 декабря; с будущей недели скульптор начнет лепить фигуру Ночи. Провожая Лабордета в переднюю, Нана вспомнила про булочника.
— Кстати, — спросила она вдруг, — нет ли у тебя десяти луидоров?
Лабордет никогда не изменял своему принципу — не одалживать денег женщинам. У него всегда был готов ответ:
— Нет, голубушка, я сам без единого су… Но если хочешь, я могу пойти к твоему Мюфашке.
Нана отказалась. Это совершенно бесполезно: два дня тому назад она выпросила у графа пять тысяч франков. Но она тут же пожалела: следом за Лабордетом явился булочник, хотя еще не было и половины третьего. Он без всякой церемонии уселся в передней на скамейке и так громко ругался, что голос его доносился до второго этажа. Молодая женщина слушала и бледнела; но больше всего ее изводило затаенное злорадство прислуги. Вся кухня покатывалась со смеху; кучер то и дело заглядывал со двора, а Франсуа без всякой надобности выбегал в переднюю и, переглянувшись с булочником, спешил на кухню поделиться впечатлениями. Хозяйку ни во что не ставили, стены дрожали от хохота, она чувствовала себя страшно одинокой в этой атмосфере презрительного отношения людей, следившей за каждым ее движением и осыпавшей ее грязными шутками. У Нана мелькнула было мысль занять сто тридцать три франка у Зои, но она тотчас же отказалась от нее; она и так уже задолжала своей горничной и из гордости не хотела просить, боясь получить отказ. Она была так взволнована, что, войдя к себе в спальню, проговорила вслух, обращаясь к самой себе:
— Нет, голубушка, видно, тебе не на кого надеяться, кроме самой себя… Твое тело принадлежит тебе; лучше воспользоваться им, чем получать оскорбления.
И, обойдясь без помощи Зои, она с лихорадочной поспешностью оделась и собралась идти к Триконше. Это было крайнее средство, к которому она прибегала в критические минуты. Старуха всегда принимала ее с распростертыми объятиями, а Нана либо отказывалась от ее услуг или же уступала необходимости. И в те дни, когда среди окружавшей ее роскоши в ее хозяйстве оказывались вдруг прорехи — а такие дни за последнее время бывали все чаще и чаще, она могла быть уверена, что у Триконши ее уже ждут двадцать пять луидоров. Она отправлялась туда по привычке, так же просто, как бедняки идут в ломбард. Выйдя из спальни, она наткнулась на Жоржа, стоявшего посреди гостиной. Она не заметила ни восковой бледности его лица, ни потемневшего взгляда точно увеличившихся глаз. Она облегченно вздохнула.
— Ах, тебя, наверно, прислал брат!
— Нет, — ответил юноша и еще больше побледнел.
Она безнадежно махнула рукой. Что ему нужно в таком случае?.. Зачем он мешает ей пройти? Она торопится. Вдруг она вернулась и спросила:
— Нет ли у тебя денег?
— Нет.
— В самом деле, какая я дура! Откуда у него возьмутся деньги, когда даже шести су на омнибус никогда нет… Мамаша не позволяет… Тоже мужчины, нечего сказать!
Она хотела идти, но он ее не пускал; ему надо с ней поговорить. Она старалась вырваться, повторяла, что ей некогда, но сказанная им фраза заставила ее остановиться.
— Слушай, я знаю, что ты собираешься выйти замуж за моего брата.
Ну, уж это было просто комично. Она даже упала на стул, чтобы вволю посмеяться.
— Да, — продолжал юноша. — А я не хочу… Ты должна выйти замуж за меня… Я потому и пришел.
— Как! Что?.. И ты туда же! — воскликнула она. — Да что же это у вас, в роду, что ли?.. Да никогда в жизни! Вот еще новости!.. И кто вас просит лезть ко мне с подобными гадостями?.. Оба вы мне не нужны, вот что!
Лицо Жоржа посветлело. Неужели он ошибся?.. Он продолжал:
— Тогда поклянись мне, что ты не живешь с моим братом.
— Да ну тебя, ты мне надоел! — сказала Нана, с нетерпением поднимаясь со стула.
— Это смешно в первую минуту, а теперь довольно, мне некогда, говорят тебе!.. Ну да, я живу с твоим братом, раз это доставляет мне удовольствие. Ты что же, содержишь меня, платишь здесь за что-нибудь, что-ли?.. Как же ты смеешь требовать у меня отчета?.. Да, я живу с твоим братом…
Он схватил ее за руку и сжал до боли, повторяя с трудом:
— Не говори этого… Не говори…
Она освободилась, ударив его слегка по руке.
— Скажите пожалуйста, он вздумал меня бить! Ах ты, мальчишка!.. Убирайся-ка поскорей отсюда… Я терпела тебя только по доброте сердечной, так и знай! Нечего глаза на меня таращить!.. Ты что ж думал, я век буду с тобой нянчиться? Мне некогда, мой милый, заниматься воспитанием младенцев.
Он слушал ее с отчаянием в душе, не имея сил возмущаться. Каждым своим словом Нана наносила ему смертельный удар прямо в грудь. Но она не замечала его страданий и продолжала свое, радуясь, что может сорвать на нем сердце за все утренние неприятности.
— Твой брат тоже хорош гусь, нечего сказать!.. Обещал мне двести франков. Как бы не так, поди, ищи ветра в поле… Мне наплевать на его деньги!.. На них и баночки помады не купишь… Но только он поставил меня в затруднительное положение! Если хочешь знать, так я по милости твоего братца должна сейчас идти к другому мужчине, чтобы заработать двадцать пять луидоров.
Окончательно теряя голову, Жорж преградил ей дорогу к двери; он плакал, умолял, сложив молитвенно руки, шептал:
— Не надо, не надо!
— Прекрасно, я бы рада остаться, — ответила она. — Есть у тебя деньги?
Нет, денег у него не было. Он жизнь бы отдал за то, чтобы иметь деньги. Никогда еще он не чувствовал себя таким несчастным, таким никчемным маленьким мальчиком. Все его существо, сотрясавшееся от слез, выражало такое глубокое горе, что Нана не могла этого не заметить и, наконец, смягчилась. Она тихонько оттолкнула юношу.
— Слушай, котик, пусти меня пройти, так нужно. Будь умником. Ты еще дитя. Все это было очень мило неделю, другую, но сейчас я должна заняться своими делами. Ты сообрази… твой брат, по крайней мере, настоящий мужчина, с ним совсем другое дело… Кстати, сделай милость, ничего ему не рассказывай. Ему совершенно незачем знать, куда я хожу. Вот, всегда болтаю лишнее, когда рассержусь.