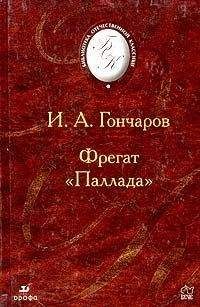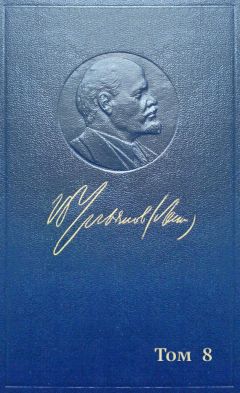9-го сентября.
День рождения его императорского высочества великого князя Константина Николаевича. Когда, после молебна, мы стали садиться на шлюпки, в эту минуту, по свистку, взвились кверху по снастям свернутые флаги, и люди побежали по реям, лишь только русский флаг появился на адмиральском катере. Едва катер тронулся с места, флаги всех наций мгновенно развернулись на обоих судах и ярко запестрели на солнце. Вместе с гимном "Боже, царя храни" грянуло троекратное ура. Все бывшие на шлюпках японцы, человек до пятисот, на минуту оцепенели, потом, в свою очередь, единодушно огласили воздух криком изумления и восторга.
Впереди шла адмиральская гичка: К. Н. Посьет ехал в ней, чтоб установить на берегу почетный караул. Сзади ехал катер с караулом, потом другой, с музыкантами и служителями, далее шлюпка с офицерами, за ней катер, где был адмирал со свитой. Сзади шел еще вельбот; там сидел один из офицеров. Впереди, сзади, по бокам торопились во множестве японские шлюпки – одни, чтоб идти рядом, другие хотели обогнать. Ехали медленно, около часа; музыка играла всё время. По батареям, пристаням, холмам – везде толпились кучи бритых голов, разноцветных, больше синих, халатов. Лодки, как утки, плавали вокруг, но близко к нам не подходили.
Мы с любопытством смотрели на великолепные берега пролива, мимо которых ехали. Я опять не мог защититься от досады, глядя на места, где природа сделала с своей стороны всё, чтоб дать человеку случай приложить и свою творческую руку и наделать чудес, и где человек ничего не сделал. Вон тот холм, как он ни зелен, ни приютен, но ему чего-то недостает: он должен бы быть увенчан белой колоннадой с портиком или виллой с балконами на все стороны, с парком, с бегущими по отлогостям тропинками. А там, в рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю да пристань, у которой шипели бы пароходы и гомозились люди. Тут, на высокой горе, стоять бы монастырю с башнями, куполами и золотым, далеко сияющим из-за кедров, крестом. Здесь бы хорошо быть складочным магазинам, перед которыми теснились бы суда с лесом мачт…
"А что, если б у японцев взять Нагасаки?" – сказал я вслух, увлеченный мечтами. Некоторые засмеялись. "Они пользоваться не умеют, – продолжал я, – что бы было здесь, если б этим портом владели другие? Посмотрите, какие места! Весь Восточный океан оживился бы торговлей…"
Я хотел развивать свою мысль о том, как Япония связалась бы торговыми путями, через Китай и Корею, с Европой и Сибирью; но мы подъезжали к берегу. "Где же город?" – "Да вот он", – говорят. "Весь тут? за мысом ничего нет? так только-то?"
Мы не верили глазам, глядя на тесную кучу серых, невзрачных, одноэтажных домов. Налево, где я предполагал продолжение города, ничего не было: пустой берег, маленькие деревушки да отдельные, вероятно рыбачьи, хижины. По мысам, которыми замыкается пролив, всё те же дрянные батареи да какие-то низенькие и длинные здания, вроде казарм. К берегам жмутся неуклюжие большие лодки. И всё завешено: и домы, и лодки, и улицы, а народ, которому бы очень не мешало завеситься, ходит уж чересчур нараспашку.
Я начитался о многолюдстве японских городов и теперь понять не мог, где же помещается тут до шестидесяти тысяч жителей, как говорит, кажется, Тунберг? "Сколько жителей в Нагасаки?" – спросил я однажды Баба-Городзаймона, через переводчика разумеется. Он повторил вопрос по-японски и посмотрел на другого баниоса, тот на третьего, этот на ондер-баниоса, а ондер-баниос на переводчика. И так вопрос и взгляд дошли опять до Бабы, но без ответа. "Иногда бывает меньше, – сказал наконец Садагора, – а в другой раз больше". Вот вам и ответ! Они всего боятся; всё им запрещено: проврутся во вздоре – и за то беда. Я спросил однажды, как зовут сиогуна. "Не знаем", – говорят. Впрочем, у них имя государя действительно почти тайна, или по крайней мере они, из благоговения, не произносят его; по смерти его ему дают другое имя. У них вообще есть обычай менять имена по нескольку раз в жизни, в разные эпохи, например при женитьбе и тому подобных обстоятельствах.
Мы всё ближе и ближе подходили к городу: везде, на высотах, и по берегу, и на лодках, тьмы людей. Вот наконец и голландская фактория. Несколько голландцев сидят на балконе. Мне показалось, что один из них поклонился нам, когда мы поравнялись с ними. Но вот наши передние шлюпки пристали, а адмиральский катер, в котором был и я, держался на веслах, ожидая, пока там всё установится.
Берег! берег! Наконец мы ступили на японскую землю. Мы вышли на каменную пристань. Ну, берег не очень занимательный: хоть и не выходить!
На пристань вела довольно высокая, из дикого камня, лестница. Набережная плотно убита была песком: это широкая площадка. Домы были завешены сплошной, синей и белой, холстиной. Караул построился в две шеренги по правую сторону пристани, офицеры по левую. Сзади толпился тощей кучкой народ, мелкий, большею частью некрасивый и голый. Видно было, что на набережную пустили весьма немногих: прочие глядели с крыш, из-за занавесок, провертя в них отверстия, с террас, с гор – отвсюду. В толпе суетился какой-то старик с злым лицом, тоже не очень одетый. Он унимал народ, не давал лезть вперед, чему кроме убедительных слов немало способствовала ему предлинная жердь, которая была у него в руках.
Едва адмирал ступил на берег, музыка заиграла, караул и офицеры отдали честь. А где же встреча, кто ж примет: одни переводчики? Нет, это шутки! Велено спросить, узнать и вытребовать.
Переводчики засуетились, забегали, а мы пока осматривали носилки, или "норимоны" по-японски, которые, по уговору, ожидали нас на берегу. Их было двенадцать или еще, кажется, больше, по числу офицеров. Я думаю, их собрали со всего города. Они заменяют в Японии наши кареты. Носилки, довольно красивые на взгляд, обиты разными материями, украшены значками и кистями. Но в них сесть было нельзя: или ног, или головы девать некуда. "Не для пыток ли заведены у них эти экипажи?" – подумаешь, глядя на них. Полунагие носильщики на толстой жерди, продетой вверху, несут норимоны на плечах. Всё это крайне неловко, не то что в Китае. В Гонконге меня носили в препокойных и удобных носилках, вроде наших качелей, на которых простой народ качается на Святой неделе. В них сидишь, как в креслах. Кроме носилок была тут, говорят, еще и лошадь. Я не заметил лошади и не знаю, зачем она была. В этой суматохе простительно и слона не заметить. Кое-кто из наших попробовали было влезть в эти клетки, то есть носилки, но тотчас же выскочили и пошли пешком.
Наконец явился какой-то старик с сонными глазами, хорошо одетый; за ним свита. Он стал неподвижно перед нами и смотрел на нас вяло. Не знаю, торжественность ли они выражают этим апатическим взглядом, но только сначала, без привычки, трудно без смеху глядеть на эти фигуры в юбках, с косичками и голыми коленками.
Я стоял сзади, в свите адмирала, в хвосте нашей колонны. Вдруг впереди раздалась команда "Марш вперед!", музыка грянула, и весь отряд тронулся с места. Слышались мерные и дробные шаги идущих в ногу матросов. Отошли не более ста сажен по песчаной набережной и стали подниматься на другую каменную лестницу. По сторонам расставлены были, на сажень один от другого, японские… Ужели это солдаты? Посмотрите, что это такое: взятые на подбор, поменьше ростом, японцы в маленьких, в форме воронки, лакированных шапках, с сонными глазами. Они стояли, откинувшись корпусом назад, ноги врозь, с согнутыми коленками. На плечах у них, казалось, были ружья: надо подозревать так, потому что самые ружья спрятаны в чехлах, а может быть, были одни чехлы без ружей. Здесь всё может быть, чего в других местах не бывает.
Мы еще были внизу, а колонна змеилась уже по лестнице, штыки сверкали на солнце, музыка уходила вперед и играла всё глуше и глуше. Скомандовали: "Левое плечо вперед!" – колонна сжалась, точно змей, в кольцо, потом растянулась и взяла направо; музыка заиграла еще глуше, как будто вошла под свод, и вдруг смолкла.
Над головой у нас голубое, чудесное небо, вдали террасы гор, кругом странная улица с непохожими на наши домами и людьми тоже.
Мы завернули за колонной направо, прошли ворота и очутились на чистом, мощеном дворе перед широким деревянным крыльцом без дверей.
Прежде всего бросается в глаза необыкновенная опрятность двора, деревянной, крытой циновками лестницы, наконец, и самих японцев. В этом им надо отдать справедливость. Все они отличаются чистотой и опрятностью, как в своей собственной персоне, так и в платье. Как бы в этой густой косе не присутствовать разным запахам, на этих халатах не быть пятнам? Нет ничего. Не говорю уже о чиновниках: те и опрятно и со вкусом одеты; но взглянешь и на нищего, видишь наготу или разорванный халат, а пятен, грязи нет. Тогда как у китайцев, например, чего не натерпишься, стоя в толпе! Один запах сандального дерева чего стоит! от дыхания, напитанного чесноком, кажется, муха умрет на лету. От японцев никакого запаха. Глядишь на голову: через косу сквозит бритый, но чистый череп; голые руки далеко видны в широком рукаве: смуглы, правда, но все-таки чисты. Манеры у них приличны; в обращении они вежливы – словом, всем бы порядочные люди, да нельзя с ними дела иметь: медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут. Бить их жаль. Они такой порядок устроили у себя, что если б и захотели не отказать или вообще сделать что-нибудь такое, чего не было прежде, даже и хорошее, так не могут, по крайней мере добровольно. Например: вот они решили, лет двести с лишком назад, что европейцы вредны и что с ними никакого дела иметь нельзя, и теперь сами не могут изменить этого. А, уж конечно, они убедились, особенно в новое время, что если б пустить иностранцев, так от них многому бы можно научиться: жить получше, быть посведущее во всем, сильнее, богаче.