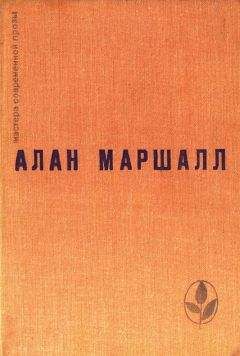Одним прикосновением были включены все электрические лампы, высветившие толпу людей, которые стояли, подняв лица к застекленной крыше; однако, увидев друг друга при искусственном освещении, все сразу опустили головы и начали расходиться. Еще несколько минут дождь хлестал по крыше, раз или два ударил гром, но тьма начала рассеиваться, и шелест капель стал потише: было ясно, что огромная масса взбаламученного воздуха уходит прочь, уносится в сторону моря вместе со своими тучами и огненными разрядами. Здание, которое казалось таким маленьким в грохоте бури, опять стало надежным и большим, как обычно.
Когда гроза утихла, люди в холле расселись и с приятным чувством облегчения начали рассказывать друг другу истории о страшных бурях, а многие обратились к своим ежевечерним занятиям. Принесли шахматную доску, и мистер Эллиот, на котором в знак недавней болезни вместо воротничка был шарф — хотя во всем остальном он вернул себе прежний облик, — вызвал мистера Пеппера на финальное состязание. Вокруг них собралось несколько дам с рукодельями, а у кого их не было — с романами, чтобы надзирать за игрой, как будто они присматривали за двумя мальчуганами, играющими в шарики. Время от времени дамы поглядывали на доску и делали мужчинам ободрительные замечания.
За углом миссис Пейли разложила перед собой карты длинными лесенками; Сьюзен сидела рядом — сочувствуя, но не вмешиваясь; торговцы и разные другие люди, имена которых так никому и не стали известны, растянулись в креслах с газетами на коленях. Атмосфера сложилась такая, что разговоры велись мимолетно, перескакивали с темы на тему, часто прерывались, но зал был наполнен тем движением жизни, которое трудно описать словами. Иногда над головами, шелестя, пролетала ночная бабочка с серыми крыльями и ярким брюшком, а потом билась в лампы с глухим постукиванием.
Молодая женщина отложила шитье и воскликнула:
— Бедняжка! Милосерднее было бы убить ее.
Но никому, по всей видимости, не хотелось вставать и убивать бабочку. Люди смотрели, как она металась от лампы к лампе: им было уютно и никакие дела их не обременяли.
На диване, рядом с шахматистами, миссис Эллиот объясняла миссис Торнбери новый способ вязания, поэтому их головы склонились очень близко одна к другой, и различить их можно было только по старому кружевному чепчику, который миссис Торнбери носила вечерами. В вязании миссис Эллиот была мастерицей, и если и отклоняла похвалы по этому поводу, то с явной гордостью.
— Вероятно, у каждого есть что-то, чем он гордится, — сказала она. — Я вот горжусь своим вязанием. Думаю, это семейное. Мы все хорошо вяжем. У меня был дядя, который вязал себе носки до самой смерти и делал это гораздо лучше, чем любая из его дочерей, — милейший был старик. Удивляюсь, почему вы, мисс Аллан, не займетесь вязанием по вечерам — вы ведь так напрягаете глаза. Сразу поняли бы, как это успокаивает, какой отдых дает глазам; к тому же благотворительные базары всегда так рады любым изделиям. — Ее речь журчала гладко и негромко, будто сама по себе, как это бывает у заядлых вязальщиц: слова выходили легко, одно за другим. — Все, что вяжу, я всегда могу сбыть с рук, и это приятно: по крайней мере, чувствую, что не зря трачу время…
Мисс Аллан, услышав, что к ней обратились, закрыла роман и некоторое время спокойно смотрела на окружающих. Наконец она сказала:
— Все-таки неправильно бросать жену, которая тебя любит. Но, насколько я понимаю, так и поступает герой в моей книжке.
— Ай-ай-ай, как нехорошо — конечно, совсем не правильно, — прожурчали в ответ вязальщицы.
— При том, что эта книга из тех, которые люди считают очень умными, — добавила мисс Аллан.
— «Материнство» Майкла Джессопа[73], вероятно? — вставил мистер Эллиот: он никогда не мог удержаться от соблазна поболтать во время игры в шахматы.
— Знаете, — через какое-то время сказала миссис Эллиот, — мне кажется, люди перестали писать хорошие романы — такие, как раньше, во всяком случае.
Никто не взял на себя труд согласиться с ней или возразить. Артур Веннинг, который прохаживался, иногда останавливаясь, чтобы понаблюдать игру или прочитать страничку в журнале, посмотрел на уже почти дремавшую мисс Аллан и шутливо спросил:
— О чем задумались, мисс Аллан?
Все подняли глаза. Они были рады, что он заговорил не с ними. Но мисс Аллан ответила без колебаний:
— Я думала о моем воображаемом дядюшке. По-моему, такой есть у каждого, не так ли? У меня есть — наиприятнейший пожилой господин. Он всегда мне что-то дарит. То золотые часы, то экипаж с парой лошадей, то прелестный домик в Нью-Форесте, то билет до места, в котором я очень хочу побывать.
Все невольно стали думать о том, чего хотели бы они. Миссис Эллиот знала точно, чего ей хочется: ребенка. Поэтому на лбу ее сильнее обозначилась привычная морщинка.
— Мы такие счастливые люди, — сказала она, глядя на мужа. — У нас нет неисполненных желаний. — Эти слова были произнесены ею для того, чтобы убедить и себя, и других. Но проверить, как у нее это получилось, она не успела — вошли мистер и миссис Флашинг. Они пересекли холл и остановились у шахматной доски. Миссис Флашинг выглядела еще более растрепанно, чем обычно. Длинная черная прядь упала ей на лоб, на щеках пылал темно-красный румянец и блестели капли дождя.
Мистер Флашинг объяснил, что они были на крыше, наблюдали оттуда грозу.
— Зрелище было великолепное, — сказал он. — Молния сверкала прямо над морем, озаряла волны и корабли далеко-далеко. А как роскошно смотрелись горы — вы не представляете — свет вперемешку с огромными тенями… Теперь уже все кончилось.
Он опустился в кресло и стал с интересом следить за финалом поединка.
— Значит, завтра уезжаете? — спросила миссис Торнбери, посмотрев на миссис Флашинг.
— Да, — ответила та.
— И между прочим, уезжать вовсе не жалко, — сказала миссис Эллиот, изобразив на лице тревожную скорбь. — После всех этих болезней.
— Вы что, боитесь умереть? — презрительно спросила миссис Флашинг.
— Думаю, мы все этого боимся, — с достоинством ответила миссис Эллиот.
— Наверное, мы все трусы, когда доходит до дела, — проговорила миссис Флашинг, потираясь щекой о спинку кресла. — Я-то уж точно.
— И вовсе нет! — сказал мистер Флашинг, оборачиваясь, потому что мистер Пеппер надолго задумался над своим ходом. — Желание жить — это не трусость, Элис. Это нечто противоположное трусости. Лично я хотел бы жить сто лет — с условием, конечно, что при мне останутся все мои способности. Представьте, сколько всего произойдет за это время!
— И у меня такое же чувство, — вступила миссис Торнбери. — Перемены, улучшения, изобретения и — красота! Знаете, иногда мне кажется, что умереть невыносимо именно потому, что перестанешь видеть вокруг красоту.
— Безусловно, было бы очень тоскливо умереть до того, как выяснят, есть ли жизнь на Марсе, — добавила мисс Аллан.
— Вы всерьез верите в жизнь на Марсе? — спросила миссис Флашинг, впервые посмотрев на нее с живым интересом. — Кто вам про это рассказал? Кто-то знающий? А вы знаете некоего…
В этот момент миссис Торнбери положила вязание, и в глазах ее проступила крайняя озабоченность.
— Мистер Хёрст, — тихо сказала она.
Сент-Джон только что вошел через крутящуюся дверь. Он был сильно растрепан от ветра, страшно бледен, щеки были небриты, и кожа на них выглядела нездоровой. Сняв пальто, он собирался пройти через холл и сразу подняться к себе в номер, но не мог проигнорировать присутствие стольких знакомых, особенно когда миссис Торнбери встала и пошла к нему навстречу, протягивая руку. Позади него были дождь и темнота, а до этого — долгие дни напряжения и ужаса, поэтому сейчас, оказавшись в теплом и светлом зале, где непринужденно сидело множество жизнерадостных людей, он испытал потрясение. Он смотрел на миссис Торнбери не в силах говорить.
Все замолчали. Рука мистера Пеппера застыла над шахматным слоном. Миссис Торнбери осторожно усадила Сент-Джона в кресло, сама села рядом и со слезами на глазах ласково сказала:
— Вы сделали для своего друга все возможное.
Это послужило сигналом: все опять стали разговаривать, будто и не прерывались, а мистер Пеппер сделал ход слоном.
— Сделать ничего было нельзя, — произнес Сент-Джон. Он говорил очень медленно. — Просто не верится…
Он провел рукой по глазам, как будто его отделяла от других людей какая-то греза, из-за которой он не мог понять, где находится.
— Ах он бедный… — сказала миссис Торнбери, и по ее щекам опять потекли слезы.
— Не верится, — повторил Сент-Джон.
— Он хотя бы понимал, что?.. — очень осторожно начала миссис Торнбери.
Но Сент-Джон не ответил. Он откинулся в кресле, почти не видя окружающих и не слыша, что они говорят. Он ужасно устал, а свет и тепло, движения рук, негромкие дружелюбные голоса подействовали на него, как успокоительное снадобье. Он сидел неподвижно, и постепенно чувство облегчения перешло в чувство глубокого счастья. Он перестал думать о Теренсе и Рэчел, не испытав никаких угрызений по поводу своей неверности. Движения и голоса как будто стекались из разных частей зала и выстраивались в узор перед его глазами; ему очень нравилось сидеть молча и наблюдать за развитием этого узора, тогда как взгляд его был направлен на что-то, чего он почти не видел.