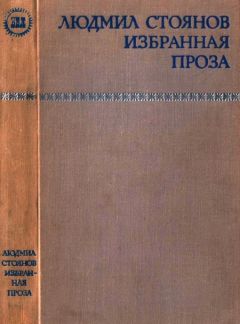Мать вытерла глаза нижним краем фартука.
Мне стало грустно за нее. Как он мог так тяжко и несправедливо обижать ее? Дармоедка… От темна до темна она работает и в доме и во дворе… Правда, в ней нет расторопности, общительности, но разве можно так ее оскорблять?
Я выбежал в сад и зашагал по узким тропинкам. Потом лег на сухую, пожелтевшую траву. Во рту был горький осадок, перед глазами вертелись темные круги. За что, за что он оскорбил мать? Почему он, знающий жизнь, не продвинулся дальше простого учителя? Кроме того, пусть дядя Марин богат, но какое же богатство у бабки Мерджанки…
В саду было прохладно. Через открытое окно я слушал голоса родителей, но уже спокойные, примиренные.
День был солнечный и теплый. Сквозь поредевшую листву сияло синее небо, вековые тополя возвышались в глубине двора, на них перепархивали воробьи, летали вороны.
«Убегу! — мелькнула у меня дерзкая мысль. — Найдутся добрые люди, примут меня на работу. В городе пойду к Христоско, он меня устроит. Здесь оставаться невозможно». Но тут в голове у меня потянулись вереницей пугающие мысли о дождливых осенних днях, о холодном балканском ветре, о зимних метелях. А без денег куда я денусь в городе? Думаю, думаю — то решаюсь бежать из дому, то колеблюсь…
Смотрю на муравейник у моих ног. Сотни муравьев торопятся взад и вперед, как будто каждый из них выполняет строго определенную задачу. Только я сижу тут безо всякой цели.
Отец с матерью продолжали разговаривать. Голос отца звучал как труба, а мать говорила тихо, задушевно. Он настаивал на своем, но что говорила мать, я не слышал. И что она, не зная жизни, могла предложить? Потом они замолчали, и я решил, что и на этот раз они не пришли к соглашению. На меня нахлынули еще более мрачные мысли.
Вдруг мать весело меня окликнула:
— Милко! Ты где?
Я вскочил как ужаленный и встал перед террасой.
— Что случилось, мама? — испуганно спросил я.
— Приготовься, завтра поедешь в город, — сказала она уже спокойным голосом.
— В город? Зачем?
— Учиться, глупый.
Сердце у меня сильно забилось, и, должно быть, я от волнения покраснел, потому что она протянула сквозь дощатые перила руку и погладила меня по голове.
— Она сказала ясно: в город, учиться.
Я схватил эту жесткую худую руку и поцеловал ее.
Десятая глава
Город и его обитатели
НОВЫЕ ТОВАРИЩИ
Город меня поразил. Высокие здания, магазины, витрины с самыми различными товарами… Оживленные улицы, большие мосты на реке, длинный ряд тополей вдоль берега. В первый же день я нашел школу, отыскал учителя Мимидичкова и передал ему письмо моего отца.
Он его сразу прочел, поднял брови и только теперь, вглядевшись в меня, сказал удивленно:
— Ого, как ты вытянулся! Прямо взрослый мужчина.
И, перебросив письмо с руки на руку, добродушно добавил:
— Отец пишет, чтоб я тебя где-нибудь устроил… Но где? Пока побудешь у меня дома. Потом посмотрим.
На другой же день он нашел мне комнатку у одной старой бездетной вдовы, зачислил меня в школу, и я уже сидел на парте в пятом классе «А». Рядом со мной — бледный тонкий мальчик в матроске, в коротких брюках и длинных носках. Называли его Панерче. Его отец, мелкий банковский чиновник, по утрам его приводил, а в обед заходил за ним. В первые же дни я заметил, что такая унизительная опека не нравится ученикам. Настоящее имя мальчика было Борис Пейчев. Когда же его называли Панерче, он обижался и лез с кулаками. Но был он слабенький, и чаще всего ему же и влетало. По другую сторону от меня сидел Никола Козлев, по прозвищу Козел. Здесь у всех были прозвища, связанные или с именем, или с характером.
Как быстро течет время! В селе оно ползло черепахой — едва-едва, стояло неподвижно, как топкие болота возле Сушицы. Здесь оно мчится, словно горный поток.
Однажды утром я встретил Черныша, идущего на работу на табачный склад. Коротко остриженный, в поношенных, но аккуратно заштопанных брюках, босой, в одной рубашке, он выглядел совсем взрослым и гордился, что сам зарабатывает себе на хлеб.
Мы стали часто встречаться. Все еще озлобленный и сердитый на весь мир, со мной он любил разговаривать, посвящать меня в свои планы. А они у него были всегда странные, рискованные, связанные с каким-нибудь приключением.
Однажды я ему сказал:
— Черныш, а помнишь, как ты украл у меня рогатку?
Он смутился, посмотрел на меня испытующе и ничего не ответил. Слово «украл» заставило его покраснеть.
— Три ночи я не спал из-за нее, — добавил я. — Ну да ладно!
Он уклончиво пожал плечами, но, по-видимому, был доволен, что я завел разговор о рогатке, потому что засмеялся и хлопнул меня по плечу.
— Ага, помнишь! И я помню, — сказал он, потупив свои большие круглые глаза. — Два месяца я ее таскал, потом уронил в костер, и она сгорела…
Он понял, что обида давно забыта, и оживился.
Начались обильные дожди. Над зубчатыми вершинами Родоп ползли серые тучи. Река прибывала, мутная, озверевшая, враждебная. В ее белой пене неслись с верховья вырванные с корнем кусты и ветви.
Два деревянных моста были снесены. Река атаковала старый римский каменный мост в три свода, атаковала яростно, ожесточенно.
Часть склада, где работал Черныш, — ветхое дощатое здание в верхнем конце города, там, где река вырывается из ущелья, — была разрушена и унесена.
— Весь табак, фью! — вниз по воде… — Черныш щелкнул пальцами и засмеялся.
Видимо, это событие мало его тронуло.
— А как же теперь? Что ты будешь делать? — тревожусь я.
Смеется, Ведь он только простой рабочий, черную работу всегда найдет. Пусть хозяева огорчаются. Впрочем, он их никогда и не видел. Они живут в красивом двухэтажном доме с садом, с большим фонтаном посредине. А его дело только получать раз в неделю поденную плату, а в понедельник торопиться с утра пораньше на работу, дышать ядовитой табачной пылью. Вечером же искать встречи со мной, потому что он одинок.
Река все прибывает, и волны перехлестывают через каменный парапет, разъедая старую кладку. Стихия свирепеет, над мостом носится облако водяной пыли.
Кто-то хлопнул меня по плечу. Штерё!
Штерё — мой одноклассник, — высокий паренек с большой головой, выдающейся вперед нижней челюстью и мясистым носом. Насколько Черныш ловок и подвижен, настолько Штерё неуклюж, ленив и необщителен.
Штерё учился хорошо, но был какой-то замкнутый и меланхоличный. Никто не видел, чтоб он смеялся. Его отец, по профессии мясник, по целым неделям пил. Был он крупный, статный мужчина, с косматыми бровями. В дни запоя ходил по главной улице и пел осипшим голосом: «Болен лежит Кара Мустафа, ой, мама родная». Он качался, подымал уже почти пустую баклагу, размахивал руками и угрожал какому-то воображаемому противнику, даже иногда вынимал нож. В таких случаях нож приходилось отбирать, повалив его самого на землю.
Взявшись за руки, мы смотрели на взбесившуюся воду, когда вдруг раздался оглушительный грохот и над мостом поднялось огромное облако белой пыли. В следующие несколько мгновений река как будто смирилась, вода унеслась куда-то вниз.
— Ой! Смотри, смотри! — закричали Черныш и Штерё.
Середины моста как не бывало. Она рухнула, и теперь вода с новым напором подымалась вверх. Живая, упорная вода.
Я вспомнил реку в селе — мутную, шалую. Осенью она растекалась по полям, по дорогам, наполняла колеи и канавы, заливала огороды и сады, самовольно забиралась во дворы, превращая землю в непроходимую грязь. А летом куда-то пряталась, чахла, как больной, и пшеница сохла, кукуруза торчала, как сухие колючки.
Штерё скоро бросил школу и тоже поступил на табачный склад. Его отец ушел к другой женщине, и Штерё вынужден был заботиться о матери.
Как удивительна и своенравна жизнь! Люди так погружены в хлопоты, заботы, ссоры друг с другом, что им просто некогда поднять глаза. А в городе чего только не происходит! Каждый день новые происшествия, новые события!
Нас водили причащаться. Церковь была полна учеников, которые разговаривали, окликали друг друга, толкались. Отец Владимир, высокий, с каштановой бородой, одетый в новую блестящую епитрахиль, громко кричал:
— Тише! Тут что, церковь или синагога?
Среди несмолкаемого шепота он прочел молитву. Потом, торжественно обратившись к первому ученику, велел ему открыть рот, дал проглотить с маленькой ложечки вино из чаши, которую держал в руке, и кивком головы направил к прислужнику, стоявшему с широкой медной тарелкой. На ней лежали нарезанные куски просфоры. Ученики по порядку, один за другим, принимали причастие, целовали руку и отходили.